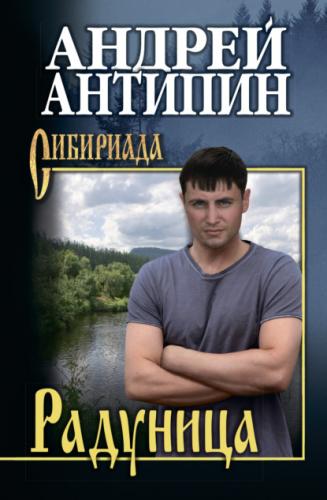– Это редкость. В основном беспутный народ. Знаете, как в том анекдоте: круглое носим, квадратное катаем. Не в обиду вам будет сказано…
– Да нет, мы ничего, – согласился Владислав Северянович. – Я тоже говорил ей: не сори деньгами, приедет баб… приедет твоя хозяйка, спросит с тебя. Я-то отвечать не буду, плевал я отвечать!
Беда внимательно посмотрела на Владислава Северяновича. Проворно встала, положив облизанную ложечку на стол.
– Ну и ладушки! А мне пора! Телефон-то у вас сломан?
– Отключили за неуплату.
Антонина Сергеевна и Владислав Северянович тоже поднялись. А Никита и так всё это время стоял, навалясь спиной на дверной косяк, сняв только шапку, – краснощёкий, намёрзшийся после леса.
– Надо уплатить. Я тебе звонить буду. Мне за сорок девять кэмэ кататься… тоже, знаешь… Дорога – убитая, а машина – новая, с низкой посадкой. Японская! Она к нашим условиям не приспособлена…
– Заплатим, не переживайте! Мы всегда так-то платим, это нынешний месяц не получилось…
– Я не переживаю! – поправила беда, прошла, сняла с вешалки пальто с норковым воротником (ну да куда ему до мухинской шапки!), подумала и встряхнула. – А, здравствуй, малыш! – как будто только сейчас обнаружила Никиту. – Ну, как дела? По грибы-то не бегаешь летом? – Обернулась к Антонине Сергеевне: – Сейчас, Тоня, в ходу трюфеля. Ты не пробовала?
– Да где!
– Вещь! Не под самогонку, само собой, а под хорошее французское вино.
– А у нас в парнике такие растут! – брякнул Никита.
– Не слушайте вы его! Вроде большой уже, книжки читает, подгонять не надо, а иной раз скажет что-нибудь…
– Тоже без толку растёт, – посочувствовала беда. Покашляла. – Пойдём-ка, Тоня, проводишь меня до калитки.
…Вернулась Антонина Сергеевна как побитая. И пока чистила картошку, пока жарила на сковороде, пока мыла посуду – по щекам её точилось. Никита, ковыряя вилкой в тарелке, и раз, и другой поднял на маму глаза – она всё так же плакала, ходуном, как будто в одном платье выставили на ветер, ходили её плечи.
– Мам, ты чего?
– Ничего, Никит, ничего! – швырк-швырк носом.
– Вижу, чего, а говоришь, ничего! – не поверил, боясь жутких жёлтых фар в ночи, а больше того переживая за маму, которой лихие люди могли сделать плохо. – Ты со мной сегодня ложись, ладно?
– Ладно.
И завыла за окнами метель, гремя листом жести, заворотившимся на крыше. Встав на задние лапы, сама себя кусала за выгнутую грудь, откашливая шерсть, которую подхватывало и несло по белу свету. Бежала, выдыхая клубы. Рыла снег, а то, задрав лапу, крапала на месяц, что горел в небе синий-синий, словно пропитанный бензином клок ваты. И снова труси́ла, чертя носом. В чистом поле нюхала следы. Вот-вот найдёт их дом, взовьётся серебристыми снежинками и юркнет в замочную скважину. Ночью оживёт, на цыпочках прокрадётся в детскую, поцелует Никиту ледяными губами, а маму цапнет за бочок и утащит за тридевять земель, в дремучие леса, закуёт в каменной пещере…
Вот