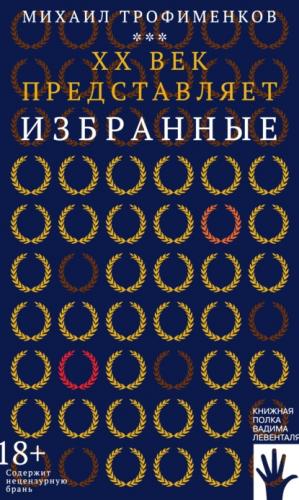В жанровом кино его безусловный шедевр – роль Горбатого («Место встречи изменить нельзя», Станислав Говорухин, 1979). Сценарий не давал никаких зацепок, не делал никаких намеков на прошлое увечного упыря, но, благодаря гению Джигарханяна, зрителя обдавало холодом бездны, из которой вкрадчивый садист явился и куда его любой ценой надо было загнать. Разыгравшись, Джигарханян мог позволить себе выпасть из экранной реальности: международный киллер № 1 Макс Ришар («Тегеран-43», Александр Алов и Владимир Наумов, 1980), готовящий покушение на «большую тройку», мутировал в какого-то неандертальца, чуть ли не шерстью обрастал. Но актер всегда улучал момент, чтобы бросить с экрана смущенный взгляд хлопотливого армянского дедушки, который так увлекся, так увлекся, рассказывая внукам страшную сказку, что самого себя напугал.
Армянские дедушки или дядюшки в расцвете лет – его отдельная «песня». Характерен дрейф Джигарханяна в этом амплуа – в дуэте с режиссером Эдмондом Кеосояном – между всесоюзным кино («Когда наступает сентябрь», 1975) и республиканским, домашним («Мужчины», 1972). Где надо, он педалировал мелодраматизм, переходя от наигранной задушевности к одинокому страданию. Где надо, невозмутимо балансировал между самоиронией – актерской и национальной – и самолюбованием. Ему – единственному из актеров советских республик – удалось стать и эталоном национального характера, и всеобщим достоянием без всякого этнографического привкуса. Он был настолько всечеловечен, что зрители безоговорочно верили в его американских мужланов, римских философов и императоров или одесских биндюжников.
Секрет такой всечеловечности прост. Джигарханян – невиданный в ХХ веке, вынырнувший откуда-то из времен Геродота и «1000 и одной ночи», истинный «левантиец» – прирожденный хамелеон: в Карфагене – карфагенянин, в Афинах – афинянин, в Стамбуле – осман.
Восхищаясь фейерверком жанровых и характерных ролей, надо не предать забвению еще одного Джигарханяна. Звездой его сделали не Овечкин и не Крипс, а молодой физик Артём, мучающийся, что его ровесники и его девушка воюют и погибают, а он, «окопавшись в тылу», пусть от его изысканий и зависит будущее родины, ловит косые взгляды. Артём («Здравствуй, это я», Фрунзе Довлатян, 1965) – один из самых пронзительных шестидесятнических героев, а молодой Джигарханян – такое же романтическое лицо оттепели, как Белявский или Лановой.
Романтизм 1960-х клонился к земле под тяжестью многих знаний и печалей, и вместе