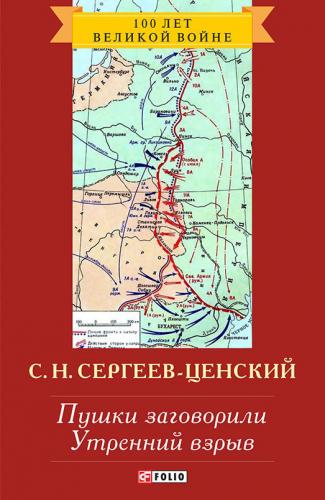Однако же все шли на такой грандиознейший бой, какого еще не знало человечество. А он, художник, всю жизнь бившийся с тем, что не хотело поддаваться, не лезло в рамки его холстов, теперь точно остался не у дел, вышел в отставку.
Он всячески пытался убедить себя, что его «Демонстрация» важнее, чем начавшаяся война, однако не мог убедить, тем более что ведь сам-то он не пошел бы с красным флагом впереди толпы рабочих под пули полицейских и вызванных в помощь им солдат.
Если раньше, до войны, Сыромолотов, солнцепоклонник, неослабно наблюдал игру света и теней и чередование красочных пятен, то теперь, в первые дни уже начавшейся войны, он вглядывался в людей.
Пожалуй, был при этом налет враждебности, будто каждый извозчик или водовоз был виноват в катастрофе, каждая торговка жареной печенкой на толкучке причастна к тому сдвигу в мировой жизни, который заявлял о себе ежедневно.
Точно человек около него, кто бы ни был, стал вдруг совершенно новым: Сыромолотов не замечал женских слез, не слышал причитаний, когда был на вокзале, где провожали запасных.
– Что это за чепуха такая, хотел бы я знать, словно подменили всех? – сердито спрашивал он, придя домой, Марью Гавриловну. – Я ведь отлично помню, да и вы должны помнить, как бабы провожали своих мужей во время японской войны, какой тогда вой они подымали. Отчего же теперь воя нет? Полиция, что ли, им запрещает?
– Кто же их знает, – начала раздумывать вслух Марья Гавриловна, но вдруг добавила, отвернувшись: – Ведь вот же когда Иван Алексеевич уезжал взятый, вы же ведь тоже… не то чтобы я хочу сказать не плакали, а вообще…
– Ну да, еще чего! Чтоб я по таком балбесе плакал! – осерчал Сыромолотов.
– Я не говорю, Алексей Фомич, насчет плаканья, я только насчет жалости говорю, – попыталась оправдаться Марья Гавриловна. – Значит, выходит, народ вообще безжалостный стал.
– Как это безжалостный?
– А разумеется, чтобы если, да чтобы мне самой провожать на войну пришлось, будь у меня муж, то я бы вон как плакала бы, несмотря что на вокзале полиция или там какие жандармы!
– Э-э, полиция, жандармы! – поморщился Сыромолотов. – Я же вам говорю – не в них совсем дело. Есть они там или нет их, все равно посуровел народ… Может быть, дома отвылись, а на людях стесняются? Тогда вопрос: почему же стесняются? Очень сделались воспитанными за десять лет, чего быть, конечно, никак не может!
– Воспитание тут какое же, Алексей Фомич? – не поняла его Марья Гавриловна.
– То-то и есть: однако факт остается фактом.
Он не хотел все-таки этого факта и, помолчав с минуту, добавил:
– Хотя, впрочем, делать какие-нибудь выводы я не имею права – для этого слишком мало в сущности я видел, вы больше меня видите людей, вот почему я говорю вам…
Занятая в это время чем-то по хозяйству, Марья Гавриловна удосужилась только отозваться на это