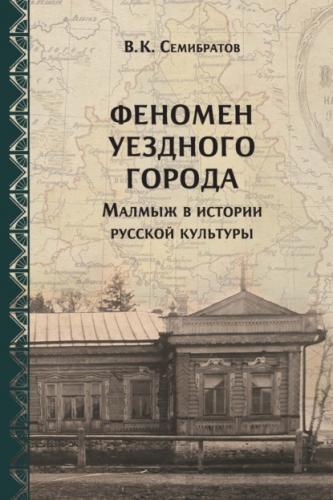Одним из тех этнографов-профессионалов, кто позднее подтвердил запечатлённое пером мастера художественного слова, был хорошо знавший обычаи марийцев член-сотрудник Императорского Русского географического общества С. К. Кузнецов. В работе «Черемисская секта Кугу Сорта», опубликованной в 1908 году в журнале «Этнографическое обозрение», он, например, отмечает: «Пятница у всех черемис издревле почитается. Равносильна нашему воскресенью и называется кугарня (т. е. кугу арня) – “великая неделя”, “большой недельный день”; к этому молению приурочены все крупные моления черемис в честь добрых богов…»[42].
На более раннюю работу С. К. Кузнецова – «Четыре дня у черемис во время сюрэма» – вскоре после её выхода в свет в 1879 году под эгидой Русского географического общества обратил внимание непревзойдённый мастер русского слова Николай Семёнович Лесков (1831–1895).
Основой 53-страничного этнографического очерка явился доклад, сделанный перед членами почтенной организации в декабре 1878 года. Со своими коллегами С. К. Кузнецов поделился свежими впечатлениями от «торжественного жертвоприношения в честь добрых богов»[43], которое ему довелось наблюдать в «Китяке – черемисской деревне на 29-й версте от города Малмыжа Вятской губернии, по елабужскому тракту»[44].
Найденные в издании ценные сведения Н. С. Лесков использовал в очерке «Епархиальный суд», впервые напечатанном под названием «Духовный суд» в трёх номерах газеты «Новости» от 12, 13 и 18 июня 1880 года.
В главе восьмой автор сетует на то, что «вера… наша, несомненно, страдает и подвергается самым ужасным, почти неслыханным в христианстве порицаниям не по влиянию “заносных учений”, на которые мы охочи всё сваливать, а по причинам, зависящим от устройства нашей церкви»[45]. В доказательство этого тезиса он приводит «недавно обнаруженный» им в исследовании С. К. Кузнецова «случай… чрезвычайно тяжелый и мучительный для сознания христианина»[46].
Вот как Н. С. Лесков излагает содержание «книжечки»:
«…Наши давно окрещённые черемисы и в 1878 году были такие же язычники, какими были до крещения… Им было как-то проповедано евангелие; у них настроены церкви, в которых есть штаты духовенства; это духовенство совершает крещение младенцев и ведёт, конечно, исповедные росписи, в которые надо вписаться, чтобы не подпасть ответственности, а христианства всё нет как нет… И это ещё не самая большая беда, что крещёные черемисы до сих пор не сделались христианами: это у нас случалось и с татарами и с мордвой, у которой до сих пор во весь развал идёт эпоха двоеверия, но вот в чём беда, – что окрещённые черемисы стали нравственно хуже, чем были; что всякий, вынужденный иметь с ними дело, – старается отыскать старого, некрещёного черемиса (из тех, кои отбежали крещения), потому что, по общему наблюдению, у некрещёных