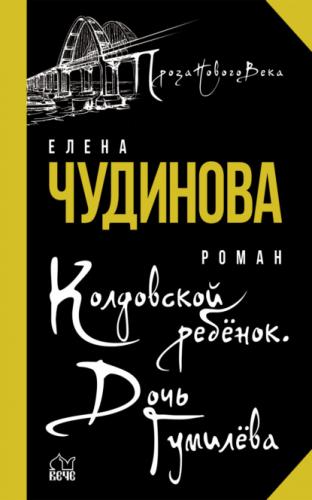Кипяток забурлил. Анна торопливо сняла чайник с примуса.
– Как ты думаешь, Аня, отчего тебя воспитывали так строго? – начала Лариса Михайловна, когда нефритовые шары улеглись обратно в свои шелковые гнезда, а на столе явились чашки – декокт для старшей и чай для младшей дамы. – Знаю, ты всегда больше любила отца. Много больше, он был к тебе добрее. Он был… не столь ревностен в своей строгости. А мне было безразлично, сильно ли ты привязана ко мне. Я слишком страшилась повторения в тебе своих ошибок. Поэтому поначалу меня безмерно напугали твои отношения с Николай Степановичем… Но только покуда я его не увидала. Я тогда сразу успокоилась. Он оказался другое.
– Я понимала, что брак твой с Бальмонтом был несчастлив – иначе вы не расстались бы. В вашем поколении развод был еще редкостью. – Анна Николаевна, смутившись, отвела глаза от лица матери. На дне чашки оказалась очень длинная чаинка – сулящая обнову. И, между прочим, скорее всего привирающая. – Но не могла же я о чем-либо спрашивать?
– Нет, не могла. Потому и дождалась ответа. – Лариса Михайловна отставила чашку. – Неприятный вкус у пустырника. Но что поделать. Я росла совсем иначе, чем ты. Своевольная, балованная. Наряды – самые дорогие, кони – самые злые, поклонники – самые завидные. Первая влюбленность всегда отдает безумием, когда же девушка привыкла во всем настоять на своих желаниях, это сущий ужас. Как же все это меня увлекло – родители против, бежать и венчаться тайно, желательно бы еще с погоней. Погони не было, но я все равно чувствовала себя героиней романа. Но влюбленность в поэта уж слишком быстро оборотилась прозой. Некрасивой и очень страшной. Кто рассуждает в восемнадцать лет? Даже если б я знала о уже имевшей быть попытке самоубийства… Она случилась, когда первый сборник его стихотворений обошла вниманием публика. Говорят, самоубийцы не меняют манеры… Во всяком случае, с Бальмонтом это было верно.
Лариса Михайловна ненадолго замолчала, поднеся ко лбу руку – белую и холеную, – словно бы назло возне с углем и примусом, с серым мылом для стирки… Ранняя молодость острее впитывает память душевной боли. В ее памяти, как наяву, выплыла балансирующая на подоконнике фигура Константина, угловатая и странно женственная, раскинутые руки, разорванный криком рот, солнечные блики, скользящие в стеклах, шум уже собирающихся снизу праздных любопытных… Нога в черной лаковой штиблете, задевшая цветочный горшок и, одновременно с грохотом соскользнувшая, крик, перешедший в рев ужаса… Страшный удар тела о землю.
– Он… он ведь из окна выпрыгивал? – тихо спросила Анна.
– С