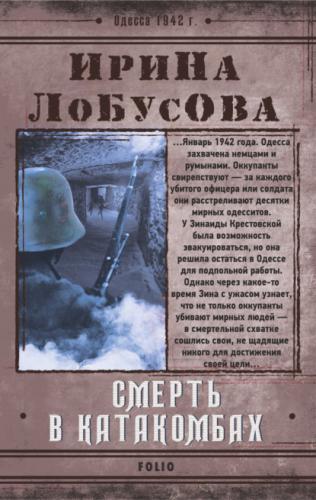Но уюта не было. Над всем этим был только привкус крови и смерти – смесь, которую Зина научилась давно различать.
Помешав дрова, Бершадов поднялся, посмотрел на нее. Брови его сдвинулись, словно бы укоризненно. Затем, не говоря ни слова, подошел к буфету, налил стопку самогона, небольшая бутылка которого пряталась внутри, и резко, решительно протянул Крестовской:
– Пей!
– Я не хочу… – слабо запротестовала она, – я не могу… это не поможет.
– Пей, – Григорий решительно ткнул в нее рюмкой. – Так ты хотя бы сможешь говорить.
Протестовать не было сил. К тому же запах не показался Зине слишком уж отвратительным. Она решительно выпила. И сразу почувствовала, как по телу разлилось приятное тепло. Бершадов налил вторую рюмку, и Зина выпила снова. Тепло усилилось – настолько, что, высвободив руку из-под одеяла, дрожащими пальцами Крестовская провела по стене. Шероховатость бумажных обоев словно вернула ей ощущение реальности. Как в далекой жизни. Как в совсем чужом мире.
С Бершадовым они не виделись уже несколько дней. И Зина очень ждала его – без него она чувствовала себя совсем потерянной.
Постоянно думая о нем, Крестовская вспомнила, что последний раз они виделись еще до Нового года. Для нее это был первый Новый год, который совсем не был праздником. Она встречала его на рабочем месте, в кафе. Для клиентов кафе было закрыто. Но Михалыч накрыл небольшой стол – роскошный по тем временам: вареная картошка, соленые огурцы, свиные шкварки, кислая капуста, вареная курица, крепкий деревенский самогон. И так сидели они всю ночь – она, Михалыч, две сотрудницы кафе, его помощницы, и еще две торговки со Староконки, знакомые Михалыча, которым некуда было идти в эту ночь. Сидели до рассвета, пили самогон, плакали. Говорили о прошлом и снова плакали. Нет, это был не праздник. У всех было одно и то же ощущение – что присутствуют на похоронах. Но кого же они хоронили, по кому устраивали поминки? По прошлому миру, вообще по жизни? Или поминали себя?
А Зина думала о Бершадове. Она все время думала о нем – где он, кто с ним. Представляла его в сырых катакомбах, его внимательные и строгие глаза, блестевшие в полутьме. И оттого плакала гораздо горше, чем все остальные. Плакала, неспособная остановиться, признаться самой себе в том, что испытывает животный страх.
Страх стал неотъемлемой частью ее жизни. Она помнила, как Бершадов предупреждал ее об этом. Страх стал частью ее, такой, как руки, ноги, волосы… И ничего сделать с этим она уже не могла.
А когда Бершадов наконец-то пришел, когда по условленному знаку в секретном месте Зина поняла, что будет свидание, ничего не получилось. В этот раз любви не было. С первого же взгляда Бершадов понял, что Зина больна. Больна не физически – с этим все обстояло в порядке. Больна другим, и это намного страшней.
Крестовская лежала в кровати, по глаза натянув одеяло,