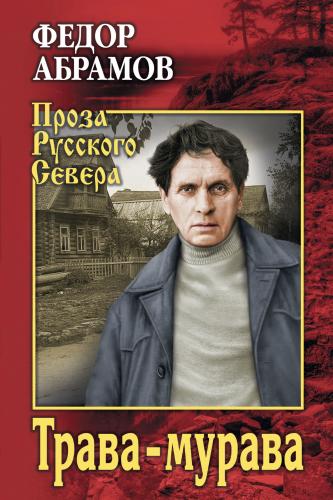– Хороша картинка? Есть на что поглядеть? – прищелкнула языком Манефа.
– Да что и говорить. Баско, – согласилась Авдотья.
– Ну раз баско, владей.
И Манефа сама прибила коврик к стене над кроватью – и в сумрачной низкой избе вроде посветлело.
Прощаясь, она сказала:
– Вот поглядывай почаще на эту картину – таких же лебедушек родишь.
– Двух? – поперхнулась Авдотья. – Господь с тобой! Да мне лучше и картинки не надо.
Но картинка осталась на своем месте. И позже, когда Авдотья уже не могла ходить и часами лежала на кровати, она подолгу смотрела на двух желтоклювых целующихся лебедей.
А что ей еще оставалось делать? Шитье в руках у нее не держалось, ее замучили головные боли, бабы все на работе, Манефа тоже из виду пропала – опять, говорят, утянулась в город за каким-то хахалем, а разглядывать картинку все-таки было развлечением.
И в конце концов все вышло так, как предсказала беспутная Манефа: Авдотья, к всеобщему удивлению, родила двойню – девочку и мальчика.
Девочку назвали многообещающим именем Надежда. Хорошая подмога будет матери: крепкая, голосистая – с улицы слышно, как орет. Ну а над именем мальчика и раздумывать было нечего: синюшный, как ни назови, все равно помрет. Это был общий приговор всех соседок, собравшихся на крестины. И потому, когда под окошком закачался знакомый облезлый заячий треух Паньки-пастуха, здорового придурковатого мужчины, кто-то, спохватившись, сказал (надо же было все-таки назвать как-то ребенка, хотя бы для того, чтобы записать в сельсоветской книге):
– А вот Паисий идет. Чем не имя?
Так и назвали мальчика по имени придурковатого пастуха Паньки.
За четыре года Авдотья извелась начисто – совсем старухой стала. И все, конечно, из-за Паньки, потому что сил не было смотреть на ребенка. Голова большущая, лопоухая, а тельце хилое-хилое, каждое ребрышко наперечет. И все лежит, все лежит – никак не может оторвать свою голову от подушки.
– Панюшка, скажи-ко, родимый, что у тебя болит?
Вздрогнет Панюшка, откроет беззубый рот, а через минуту, смотришь, опять глаза закатил – как будто он все время к чему-то прислушивается. Только уши одни и живут. Торчком стоят.
– Умрет, видно, у нас Панька-то, – сказала однажды Авдотья дочери.
Надька в слезы, в крик, и до того зашлась – насилу успокоила мать.
– Не умрет, не умрет твой Панька – водись только хорошенько.
И верно, с того дня не отгонишь Надьку от брата. Кличет, часами разговаривает, тормошит так и эдак: вставай, вставай, Панька. А спать ложится – горе: надо непременно с Панькой, да еще в обнимку – не потерялось бы это золото во сне.
И что бы вы думали? Была ли, нет какая польза от Надькиных стараний, а ребенок-то ведь начал оживать: и ручками, и ножками задвигал, и голову от подушки оторвал, а потом настал такой день – и на