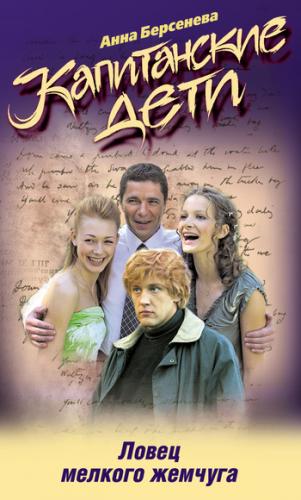– Днем тепло, а ночью стыло. Сидишь над фотокарточками своими, а с полу-то дует, со всех щелей. Ты бы хоть кальсоны пододевал.
Так скучно это было, так ненужно! Ну зачем он должен объяснять, что в июне и ночами уже тепло, разве она сама этого не знает? Каждый раз, когда приходилось вести вот такие пустые разговоры, Георгию казалось, что его обволакивает какая-то густая, вязкая жидкость, из которой он никогда не выберется.
А разговоры эти приходилось вести или хотя бы слушать каждый день, как он ни старался этого избегать. Особенно когда фотографировал на свадьбах. Его всегда это удивляло: сходятся какие-то разные, еще недавно друг друга вообще не знавшие люди, совсем разные семьи, а разговоры у них такие, как будто они всю жизнь прожили в одной коммуналке и поговорить им просто не о чем, потому что все уже давным-давно переговорено. Даже цены на мясо обсуждают, пока жених с невестой послушно целуются под крики «горько!». А уж о погоде – это обязательно.
– Да не простыл я, мам, – повторил он. – Какие еще кальсоны? У меня их и нету.
– Отцовские одень, – тут же предложила мать. – У него хорошие были, с начесом, я для тебя сберегла. Достать?
– Не надо, – вздохнул Георгий.
– И чего ты дурью маешься, Егор? – Мать придвинула к нему поближе блины, хотя тарелка с ними и так уже стояла почти у него под локтем. – Можно и в ванной карточки печатать. Разве я тебе мешаю? Далась тебе та голубятня, еще деньги платишь за нее… И музыку слушай себе хоть всю ночь, если надо. Я под музыку лучше сплю.
– Мне там удобнее, – пожал он плечами. – Мам, ну сколько можно об одном и том же?
Мать махнула рукой. Конечно, она думала, что сын пропадает в Богудонье только потому, что водит на ночь девок и стесняется матери. А почему же еще? Над книжками да над фотографиями ночами сидеть – это и дома можно.
Георгий не особенно старался ее разубеждать. Ну, и девки тоже, не без этого. Не сюда же их водить, в двухкомнатную хрущевку с картонными стенами. Но и не только из-за девок снял он, вернувшись из армии, комнату в Богудонье. Вернее, не комнату, а в самом деле голубятню, потому что денег не хватило не то что на комнату, даже на сарай.
Больше всего – из-за одиночества. Конечно, мать не мешала ему, но только в том смысле, в каком не мешала с детства, – не вмешивалась в его жизнь, и за это он был ей благодарен, хотя, может быть, она не делала этого только потому, что просто не умела вмешаться в жизнь своего сына.
Но одиночество – это ведь не просто уверенность в том, что никто не откроет дверь в темную ванную, где ты печатаешь фотографии. Георгий очень хорошо понимал то чувство, о котором говорилось в «Пире во время чумы»: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю…» Только ему не нужны были для появления этого чувства ни бой, ни бездна – ему хватало одиночества. Сразу оживали перед глазами, как на экране, какие-то ясные картины, освещались особенным, небывалым светом, он видел этот свет, которого никогда не видел в жизни, и одновременно думал, с какой экспозицией такой свет может