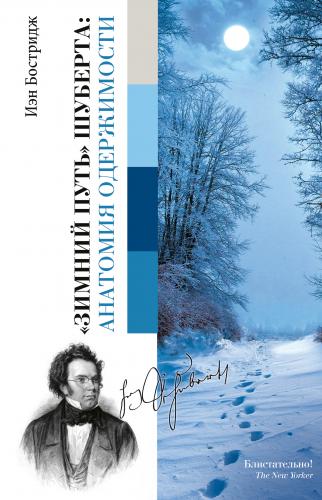В той же рукописи Шуберт обозначил темп песни как mässig, in gehender Bewegung, то есть «сдержанно, прогулочным шагом», буквально «идущим», и такое движение, будто зарядил дождь, – главная тема песни.
Зимнее путешествие – нечто большее, чем путь с несколькими остановками. Это прежде всего попытка убежать от себя, стремление удалиться, странствовать в одиночестве. Прием не нов: скитающийся во времени Вечный Жид, несущийся в пространстве «Летучий голландец» из XIX века передают эстафету дорогам Керуака и 61‐му шоссе Дерека в веке двадцатом.
Шуберт уже использовал этот прием в довольно мрачном произведении – одной из песен арфиста «Кто одиноким хочет быть» на стихи Гёте; он мог держать в голове и 26‐ю фортепьянную сонату Бетховена, так называемую «Прощальную» (Les Adieux). Музыкальный мотив ее первой части Бетховен обозначил словом Lebenwohl, «сердечное прощание». А средняя часть называется Abwesenheit («Отсутствие») с темпом andante espressivo (in gehender Bewengung, doch mit viel Ausdruck) – «идущее» движение, «но с большой выразительностью».
Почему герой песенного цикла «Зимний путь» отправляется в путь в полном одиночестве? Традиционно считается, что его отвергла возлюбленная, и он в тоске отправляется в бесцельное странствие. Нам сообщается – давайте вспомним, что девушка говорила о любви, а мать – даже о свадьбе. На этих словах мелодия поднимается, усиливается, нагнетая ожидания, а затем падает как в пропасть, возникает гнетущая пауза, знаменующая конец надежд, поворот от домашнего тепла в прошлом к унылому пейзажу, где мы находимся сейчас: «А ныне мир так темен, путь снегом занесен». Так и неясно, что погнало его в дорогу. Он ее бросил? Она его отвергла? Была ли свадьба, о которой говорила мать, вселявшим надежду миражом или кошмарным видением странника, не желающего никаких обязательств? Поступал ли он так всю жизнь? Почему он здесь, в этом доме, в этом городе? Он остановился здесь по пути куда-то, приехал к кому-то в гости, забрел случайно?
Однако время позднее, все уснули.
Отчасти ключ к пониманию всего этого лежит в глубоком интересе поэта Вильгельма Мюллера к творчеству Байрона (в 1820‐е годы он опубликовал на немецком большие эссе, посвященные «Чайльд Гарольду» и «Дон Жуану») и к тому, что можно назвать байроновской манерой отрешения, в свою очередь позаимствованной у Вальтера Скотта, автора поэмы «Мармион» и множества исторических романов.
Персонаж Мюллера, как байронический герой, окутан тайной («Чужим сюда пришел я, чужим и ухожу» – так он говорит о себе); причина трудной ситуации, в которую попал герой цикла, до конца не ясна. Позднее, когда поэтическая неопределенность уже передана слушателю, он говорит, как будто насмехаясь над байроновской моделью: Habe ja doch nichts begangen, daß ich Menschen sollte scheu’n. – «Я не сделал ничего такого, чтобы избегать общества людей». Это как бы вопрос: «Сделал ли? Ответьте мне…»
Загадка была в