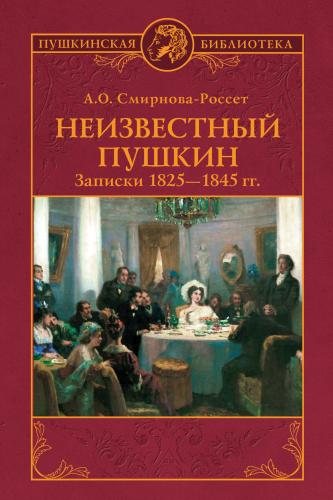Моя мать заговорила с ним о «Кинжале». Он ответил ей: «Это плохо, высокопарно! На самом деле есть только два-три хороших стиха, но теперь я гораздо требовательнее. Мне кажется, что это стихотворение я писал на ходулях, так оно напыщенно. Как человек глуп, когда он молод! Мои герои того времени скрежещут зубами и заставляют скрежетать зубами меня самого».
В одной из тетрадей я нашла заметку:
«Искра[30] принес мне поэму „Медный всадник“. Он уже написал несколько строф. Он напомнил мне один вечер и видение, как Петр Великий скачет по петербургским улицам.
Я нашла описание наводнения превосходным, особенно начало: думы Петра на пустынных берегах Невы. Когда я высказала Пушкину мое восхищение, он улыбнулся и грустно спросил:
– Вы, значит, находите, что в моей гадкой голове есть еще что-нибудь?
Я только вскрикнула. Он продолжал:
– Все, что я пишу, – ниже того, что я хотел бы сказать. Мои мысли бегут гораздо скорее пера, на бумаге все выходит холодно. В голове у меня все это иначе.
Он вздохнул и прибавил:
– Мы все должны умереть, не высказавшись. Какой язык человеческий может выразить все, что чувствует и думает сердце и мозг, все, что предвидит и отгадывает душа?»
Мать прибавляет к этому: «Он часто падает духом, вдруг делается грустным, и чем прекраснее его произведение, тем он кажется недовольнее.
Я говорила об этом с Жуковским, и он ответил мне: „Что вы хотите, мысль гения и мыслителя сверхчеловеческая; никакое слово не выразит ее вполне. Мы не так вдохновенны, как те, что писали священные книги, потому что мы не святые“».
Пушкин говорил моему отцу (который оплакивал его всю жизнь и не мог говорить о нем без волнения):
– Уверяю тебя, во всяком человеке, даже в дураке, всегда найдешь что-нибудь, если дать себе труд поискать. Ужасны только дураки с претензией да цензора.
– Когда ты говоришь с дураками, ты им ссужаешь собственного ума, – сказал ему мой отец.
– Нисколько! – ответил Пушкин. – Я не так расточителен.
Одно из любимых выражений Пушкина было: «Он просто глуп, и слава Богу».
Имя Гоголя впервые встречается в записках моей матери после подробных описаний событий 1830 года.
В первый раз, когда мать говорит о Гоголе, она называет его двойной фамилией: Гоголь-Яновский. Она говорит о нем по поводу уроков Мари Балабиной, сестры княгини Елизаветы Репниной. Больше она никогда не называла его двойной фамилией. Есть указание на то, почему она сразу так заинтересовалась Гоголем: он был малоросс. Как только Орест и Пилад (Пушкин и Жуковский) привели его к моей матери, он стал просто Гоголем и получил прозвище Хохол Упрямый. Он от застенчивости колебался ходить к моей матери, которая через Плетнева передавала ему, что она тоже отчасти «хохлачка». Это впервые сблизило их и положило начало их хорошим отношениям, перешедшим впоследствии в глубокую дружбу[31].
Есть