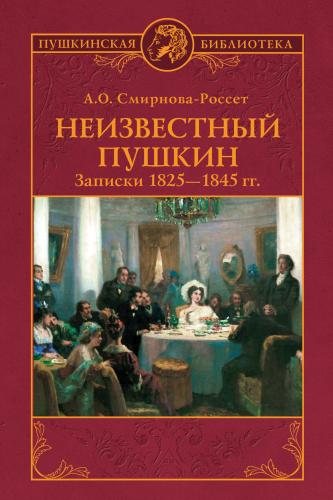Я помню Жуковского во Франкфурте. Он рассказывал мне сказки в саду дома Рейтерна, в Саксенгаузене. Жуковский казался мне очень высоким, очень полным, добрым, таким веселым! Странная вещь – воспоминания детства: почему одни обстоятельства так поражают, а другие исчезают, как во сне. Быть может, в памяти детей остается то, что для них ново. Таким образом, в эти дни, проведенные моею матерью во Франкфурте, чтобы видеться с Жуковским (там был и Гоголь), кроме жены Жуковского, сестры ее Мии Рейтерн, поразивших меня своей красотой, и дочери В. А., маленькой Саши, я помню больше всего их собаку, как она глотала вишни и как Жуковский заставлял ее плясать. Гоголь, которого я встречала беспрестанно в Риме, в Ницце, в Бадене, был для меня свой человек и считался у нас обычным явлением. Я помню, что мы с сестрою, с которой были приблизительно одних лет и вместе учились, находили Жуковского приятным, веселым и ласковым. Гоголь также нам казался веселым, так как часто шутил с нами[8]. Вообще в то время он еще не был так нездоров, хотя уже в Риме к нему привязалась malaria. После этого лета, проведенного им в Германии, при возвращении в Рим с ним сделались особенно сильные припадки римской лихорадки и тот ужаснейший припадок в Неаполе, когда он чуть не умер и от которого только спас его врач, отправивший его едва живого морем в Геную. Морская болезнь тогда спасла его и прекратила припадки. Но с 1846 года здоровье Гоголя уже никогда не поправлялось. С тех пор он подвергался трехдневным лихорадкам, всякий раз, как попадал в местность, где они царят. Он схватил такую лихорадку в Одессе, возвращаясь из Палестины. Припадок этой болезни, осложненный гастритом, и свел его в могилу. Вначале он мало заботился о своей болезни, полагая, что это просто обыкновенный припадок трехдневной лихорадки, и ограничивался лишь строгой диетой. В то время в Москве свирепствовал злокачественный гастрит. От него умерла в том же году одна из наших двоюродных сестер. Доктора и тут, как и у Гоголя, не поняли болезни, они ничего не знали о малярии, между тем как она, как возвратная лихорадка, может с двух припадков унести человека.
Я останавливаюсь на этом, потому что так много говорилось про болезнь Гоголя и о ней распространились самые нелепые слухи. Дошли до того, что уверяли, будто бы он из мистицизма уморил себя голодом! Странное понятие о религиозности. Все это должно быть еще раз пересмотрено в литературе на основании документов и показаний знакомых и друзей Гоголя, к которым принадлежала моя мать и вся наша семья[9]. У меня есть дневник, который я вела в то время (мне тоже отдала его мисс Овербек). Я упоминаю в нем о Гоголе, Алексее Толстом, славянофилах, Ив. С. Тургеневе, о всех тех, кого я встречала в Калуге, в деревне, в Москве, в Петербурге у моих родителей. Я записала тогда же подробности относительно кончины Гоголя, его похорон, всего того, что я слышала об аресте Ив. С. Тургенева, в то время, как он у нас обедал, и комментарии об этом событии.