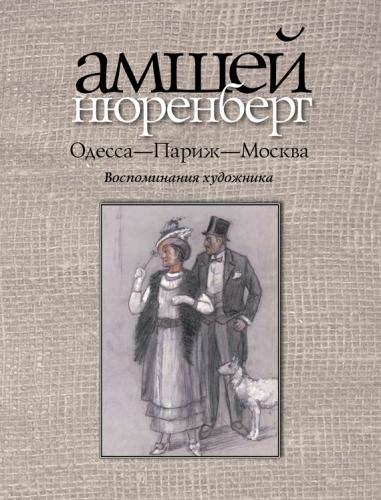– Где же твое миндальное печение? – спросил я его.
– Не торопись, мон шер, доберемся и до него. – Он встал, подошел к комоду с отбитыми углами и, насвистывая уличную песенку «Мариетту», выдвинул верхний ящик и запустил в него обе руки.
– Вот мое угощение, – сказал он. – Подойди ближе.
Я подошел к комоду. На дне ящика я увидел множество фотографий.
– Угощаю. Это все мои романы и увлечения за двадцать лет. Смотреть можешь, сколько хочешь. Только одно условие – ничего не брать.
Я дал слово.
Замусоленные, грязные фотографии. Видно было, что их часто брали потные, замаранные руки. Были и без углов, изодранные, с полустертым изображением. Я их стал внимательно перебирать, рассматривать. Груди, шеи, глаза, носы, шляпы, руки и ноги. Жирные, толстые, худые, костлявые. Богатейшая коллекция морд, лиц и личиков, от которой Домье и Доре пришли бы в восторг. Никогда в жизни не забыть мне ее.
– Неужели все они собраны тобою? – спросил я.
– Да, мною, – гордо ответил он. – Двадцать лет – понимаешь, друг мой. Двадцать лет! Это почти вся моя жизнь. Как тяжело думать сейчас об этом. Точно совсем недавно я их обнимал этими руками (он протянул свои костлявые большие руки), целовал вот этими губами (указательным пальцем он указал на свои влажные губы). Точно вчера я вдыхал запахи их кожи, волос… белья. Я как будто слышу их голоса, смех, плач… Живы ли они? Что с ними? Я только одну встречаю – Мари. Но эта, некогда чудесная, девушка чудовищно постарела. Какие-то руины! Тяжело глядеть на нее. Руины, руины… – уже забыв о моем существовании, твердил он про себя.
Спазмы голода и его истеричная речь меня утомили. Я почувствовал, как во мне росло и ширилось раздражение.
– Да, Леон, все они чудовищно постарели и служат консьержками в грязных, вонючих отелях, – говорю я, чтобы поддеть его. Его левый глаз прищурился, пряча вспыхнувший огонек злобы. Отвисшая нижняя толстая губа неприятно обнажила его вставные фарфоровые зубы.
– Старость – вот самая пакостная вещь! Как умно поступил Лафарг с женой. Ты знаешь, они, как только почувствовали, что старость их взяла за бока, – покончили с собой.
И, простирая ввысь руки, он придушенным голосом произнес благоговейно:
– Вот храбрецы!
Несколько минут он торжественно молчит, потом порывистым движением вытаскивает из ящика пачку фотографий и жадно разглядывает их. Затем он их патетически бросает на стол.
– Милые мои, дорогие мои, что с вами? Где вы? Вспоминаете ли вы меня?! – Голова его опускается над ними. Что-то шепчет им.
Я начинаю понимать, что никакого угощения не будет, что пиво с сухарями – это блеф, что Леон меня завлек к себе с тем, чтобы сделать из меня аудиторию, публику. Цель достигнута. Мы свои роли сыграли и теперь можем расстаться. Теперь он может спокойно собрать свою замечательную коллекцию и спрятать