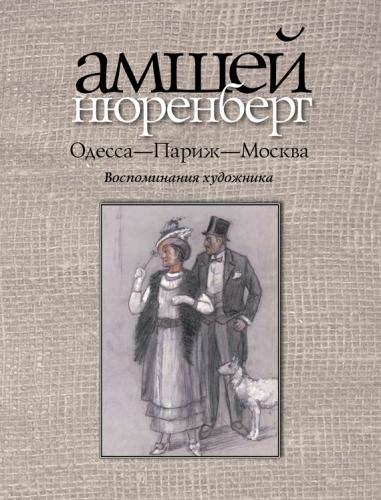Это начало уже надоедать, но тут на помощь пришло небо. Леону всегда везет. Откуда-то из-за крыш высоких домов налетели тяжелые тучи и начали славно обрызгивать бульвар.
Полицейский спрятался в дверях ближайшего кафе. Насвистывая веселую арию, Леон спокойно направился к трубе. Мокрая, испачканная грязью бумажка оказалась настоящей десятифранковой…
Поблагодарив жестом небо, счастливый Леон быстрым шагом отправился домой.
Вечером собрав нас, друзей, отвыкших от сытой жизни, Леон приказал следовать за ним. Мы ясно чувствовали, что он нас ведет на вечеринку, но делали вид, что не понимаем, в чем дело. Он нас привел в уютный монпарнасский ресторан, где кормились хорошо зарабатывавшие художники и их ленивые накрашенные подруги.
Побуждаемый чувством великолепия, Леон хотел показать нас Латинскому кварталу во всем блеске. И он нас показал.
Выбрав в глубине ресторана пустовавший уютный столик, Леон рассадил всех, как на свадьбе, и голосом человека, уставшего от милостей Парижа, громко бросил:
– Гарсон, меню!
И гарсон почтительно подал ему меню.
В такие часы лицо Леона казалось освещенным лучами утреннего солнца.
– Сегодня, друзья мои, – сказал он, – мы живем, как Ротшильды… Не отказывайте себе ни в чем!
Ну и кутнули же мы!
Коллекция Леона
Мелькнул знакомый силуэт. Леон! Его манера высоко и чуть набок держать голову. Да, это он! Может, у него выужу франк, в крайнем случае, пятьдесят сантимов – и двину к Ротшильду в гости. Вот уж поем этого пресного, как мел, но горячего и плотного риса! Вот уж на славу поем! Я его нагнал.
– Леон!
Он неохотно обернулся. Лицо его не сияло радостью. По его глазам я быстро понял, что он занят тем же, чем и я. Он ищет монеты, рассчитывая на весеннее настроение ворчливой Фортуны.
– Куда торопишься, Леон?
– На медицинский факультет.
– Зачем?
– Хочу медикам свой мозг запродать. Не возьмут мозг, тело предложу.
– Мало дадут, не советую.
Я ему стал доказывать, что французы народ скупой и мелочный.
– Да, не оценят, – соглашался он. – Ты прав насчет французов. Скуповатый народец. Правда, и туловище у меня не первого сорта. Ни кому я теперь не нужен, и ничего я теперь не стою. А было время, – с глубокой печалью добавил он, – когда в бумажнике моем лежали радужные, как сегодняшний день, бумажки и когда нижний этаж честно и бес перебойно работал. Куда же ты советуешь податься? Не на Марше-о-Пюс (Блошиный рынок) же мне поплыть. Там сидят нищие евреи, для которых пять франков – капитал. Черт знает, что такое! Не иметь