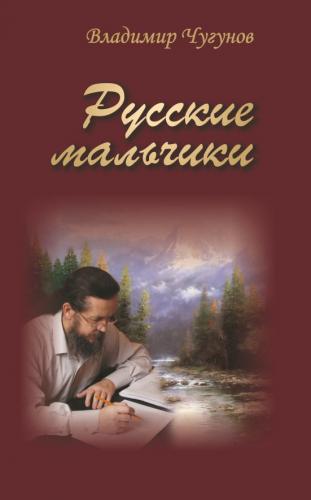И я засобирался в тайгу.
5
Дождь шёл всю ночь. И то однообразно шуршал по траве, под маленьким низким окном, то порывисто стегал по чёрному дребезжащему стеклу бывшего тюремного барака, где мы отдыхали после смены.
Внизу кипела Бирюса. Её было слышно даже сквозь шум дождя. Дождь с перерывами шёл весь день, и то тут, то там время от времени вспыхивало и гремело. Тайга в такое время особенно сурова, враждебна и непредсказуема, как затаившийся зверь. Сразу понимаешь, кто ты и где ты.
Сырая тяжесть в сапогах,
Роса на карабине.
Кругом тайга, одна тайга —
А мы посередине.
Так, порою, мы пели.
Ночью я проснулся от грома. В комнате было темно и сыро. Печь давно потухла. За окном то и дело вспыхивало и гремело так близко и страшно, точно рушились скалы. В промежутке между сполохами под окном словно бил фонтан.
Отчего-то вспомнилась мама, уютная двухкомнатная квартира в прочном кирпичном доме, с громоотводом. Шкаф с любимыми книгами. Тепло семейных праздников. Обязательные в таком случае пельмени с чесночком и горчичкой. Сытое застолье. Певучие, как и все в Мухаровской породе, дядьки, улыбчивые и весёлые работяги. И, конечно, бабушка Шура, для которой, казалось, не было плохих людей, а все «хорошие и басливые», как выражалась она, или «болтушки» – о тех, которые безуспешно пытались задеть её самолюбие. Напрасное старание: у неё его просто не было. Во всяком случае, в ту блаженную пору.
Как, помнится, всегда, по-старчески немощно и всё же важно выходила она, развернув шаль, пройтись под мой аккомпанемент на баяне «барыню». А на святках, с каким самозабвением, взявшись под руки с бабой Ганей Кашадовой, на весь совхоз выводили они её любимую песнь:
Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня.
Не морозь меня,
Моего коня…
Ничего особенного в те далёкие времена это не представляло. И, сколько мне известно, не только у нас. Желающих отвести душеньку было хоть отбавляй. Справляли и Масленицу, переименованную в «проводы русской зимы». С непременными блинами, чаем на льду нашего огромного пруда, со снежной бабой, с дырявым ведром на голове и морковкой-носом. Был тут и обледенелый столб для удальцов, с призом наверху, и, увы, уже лишь переодетые в «русских красавиц» женщины, песни, частушки. И зябко, и грустно, и весело. Какой-то цветистый лоскуток древности, его ядрёное, как квас, дыхание. Забытое-презабытое, но отчего-то ещё волнующее. Скрип расписных и простых саней, визг и восторг детворы. А поутру или даже к вечеру, когда потянет со стороны железной дороги пробирающим насквозь ветром, пометёт мусор, клочки соломы, обёртки конфет, окурки, всегда оставалось чувство неудовлетворённости, как в детстве: пообещали подарок – и не привезли.
Куда цельнее воспринималась застольная песня. В ней было больше искренности,