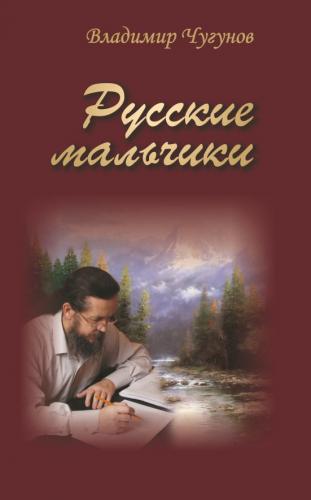И. А. Ильин
Часть первая
Глава первая
1
Пастушеский сезон 1989 года был последним годом моего своеобразного затворничества и казался завершающим перед вступлением в новый период жизни.
Той осенью в меня стреляли. Теперь мне кажется, выстрел этот имел некое символическое значение. Как бы обрывалась связь с прошлым или пуповина. Кончалось время ученичества, я стоял на распутье, как и восемь лет назад, в 1981 году, и не знал, на что решиться, что выбрать. И, чувствуя в себе неуёмную жажду деятельности, всю осень открывал новые и новые пастбища. Как и для всякого пастуха, наступало самое привольное время. Оно чувствовалось всюду и всеми. Особенно – скотиной, мирно пасущейся вдоль нескончаемого берега Оки, в дубовой роще, по сжатым нивам. Воспоминания о летних полднях, пропитанных запахом пота, отравленных укусами гнуса – особенно оттеняло это блаженство. Гусиные косяки, одиноко кружащие над болотами цапли, шумные стаи уток, холодные туманы по утрам, таинственные, как смерть, лучи вечернего солнца – всё тревожило душу чемоданным настроением. Всему, казалось, был подведен итог: и юношеским переживаниям, и военному присутствию в горах Тюрингии, и старательству, и учёбе в Литинституте, – до того момента, когда с такой осязаемой надеждой вдруг замаячила впереди земля обетованная.
«Да поминаете день исхода вашего из земли Египетския, вся дни живота вашего».
Тот день мне особенно памятен. Внешне он ничем не отличался от других дней и начался такою же утренней свежестью, густым туманом – над прудом и селом, более редким – в дубовой роще.
Соединив гавриловское и ипяковское стада, вдоль Вьюновки, кормилице и забаве детства, где-то за Нагулиным впадавшей в Гниличку, а та – в Оку, по высохшим за лето гатям, ушел в заливные луга, окруженные трясиной болот, заросших стеной осоки и тростника.
Из потрепанной пастушеской сумки достал молитвослов, затем Библию, третий раз – и всегда по-новому – шестой сезон читаемую мною. В чуткой утренней тишине значительнее казались слова бессмертной Книги.
На кусты ивняка, осоку, палую листву маслянисто садился туман, приятной свежестью опахивал лицо, мелким бисером блестел на выбившихся из-под берета волосах, бороде, холодил руки, увлажнял пожелтевшие листы Библии.
«Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, приготовь душу твою к искушению: управь сердце и будь твёрд, и не смущайся во время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться напоследок. Всё, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а человек, угодный Богу, в горниле уничижения».
Как это волновало меня!
Положив книгу на пенёк, стал ходить по излюбленному закутку, окруженному древними, как слова Сираха, дубами, по щёлкающим под ногами желудям, двадцать шагов туда и двадцать обратно – место отдыха на покосах.
«Для чего же не уклоняться? – спрашивал себя и сам же отвечал: – Чтобы не упасть. А веровать – чтобы не быть постыженным и оставленным. Страшно быть оставленным!»
«Горе сердцу расслабленному! Ибо оно не верует, и за то не будет защищено».
Вон оно что! Оказывается, причина неверия не от науки, не окружающая среда, не безбожный, развращённый мир, а расслабленное сердце!
«Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным», – прочёл дальше и опять задумался. Как всегда хотелось узнать эти Божии тайны! Порою, казалось, вот-вот, сейчас, за Относским горизонтом или в тихом Елевом долу, за лесным поворотом, на тихой, залитой полуденным солнцем поляне, среди утренней тишины, во время «умного делания» или после чтения Апокалипсиса Господь откроет хотя бы одну из них… И что же? Лишь – ощущение таинственности, какой-то всё ускользающей близости, как в «Песне Песней»: «я встала, чтобы открыть возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушёл!» Так отходит всякий раз ощущение чего-то нездешнего, когда, отложив чтение, задумаешься. Блаженная тоска души! Совершенно иная, не та, что «по ту сторону добра и зла», как любил выражаться руководитель творческого семинара Владимир Ильич Амлинский. Или та, что замаячила в дни перестройки на историческом горизонте. Казалось, надвигалось что-то неотвратимое. Что именно – никто тогда толком не мог понять и объяснить. Крушение идей и всей жизни, пожалуй. Мышиная возня у кормушки власти и денег. Разделение мнений и понятий, «охота к перемене мест», телечудеса, НЛО, инопланетяне, ясновидящие и прозорливцы, лекари и шарлатаны, непрестанная пустая трескотня, волнение умов от вновь и вновь появлявшихся публикаций о лагерной жизни и «тайнах мадридского двора», экономические, экологические и всякие иные неотложные проблемы. Складывались и ломались судьбы, гибли в автокатастрофах сильные мира сего. Очерчивались контуры будущих направлений. Ничего ещё не было ясно выражено и хотя бы чуть-чуть оформлено, а уже всем хотелось только нового, только лучшего. Создавалось впечатление, что в устоявшееся болото стремительно вливалась мощная струя – и мутила. Муть эта подступала к берегам, и нельзя