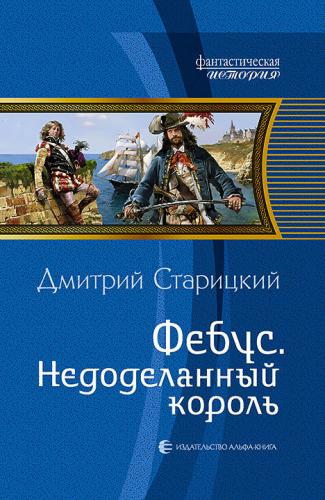Гроб с телом Грини, обряженного в его лучшие одежды, поставили в церкви на специальном помосте, который под руководством отца Жозефа принесли по частям из каких-то подсобок и собрали в центральном нефе прямо на месте, задрапировав сооружение красной тканью. Мне показалось, что этот предмет мебели при церкви постоянный, потому как периодически люди умирают даже в благословенной Басконии, и не делать же такую нужную вещь по каждому скорбному случаю заново…
Приготовив все к отпеванию, отец Жозеф и его помощники, прочитав по короткой молитве, удалились, плотно затворив за собой двери храма. Даже на замок заперли, чтобы нам никто не помешал.
Мертвое лицо Мамая лишь слегка заострилось, но в мреянии неверного света десятков свечей казалось, что принадлежало оно безмятежно спящему человеку. Лишь большие серебряные монеты на его глазах указывали на скорбный случай этой нашей встречи. Поцеловав холодный лоб казака, я, смахнув невольную слезу, ушел в глубину храма, где и сел на скамью, глядя, как в скрещенные руки Мамая амхарцы вставили толстую восковую свечу, огня которой должно было хватить на всю ночь, предварительно зажегши ее от лампады под иконой Григория Турского, святого покровителя покойного. После чего они взяли гроб в «коробочку» и, встав на колени, отдали Мамаю последние рыцарские почести.
Всю оставшуюся ночь рыцарственные монахи провели в бдении с оружием у гроба казака. Надели кольчуги на голое тело, прикрылись плащами и, стоя на коленях, опираясь ладонями на крестовины мечей, негромко пели какие-то гимны на своем тарабарском языке. Отпевали соратника. И это совсем не было похоже на привычный для меня православный обряд отпевания. Единственная мелодия, показавшаяся мне знакомой, напоминала песенную молитву русских монахов «С нами Бог», все остальное было мне в новинку. В этом их действе чувствовалось что-то совсем уж древнее, непонятное современному уму, но продирающее до печенок.
Я сидел от них поодаль и, как мог, как умел, молился за Гринину душу, чтобы ему в посмертии было так же хорошо, как он в это сам верил. Заставить самого себя поверить в загробный мир я так и не смог, несмотря на чудо переселения собственного разума в чужое тело. Разве что в индуистский метемпсихоз, раз уж мне его наглядно продемонстрировали.
Вот и на вчерашней исповеди первоначально меня обуял неодолимый душевный порыв открыть отцу Васко, кто я такой на самом деле. Но животный страх тисками сжал сердце и перекрыл предательскую гортань. Вспомнив судьбу Жиля де Реца, я лишь на краткий миг представил себя одетого в санбенито и привязанного к позорному столбу и как мои ближники подносят факелы к сложенным у моих ног дровам. Дровам моего аутодафе. И отбросил этот порыв, как вредный и несвоевременный. «Теперь ты царь, живи один».
Благоразумие победило, и каялся я святому отцу только во вмешательстве в Божий суд. На что и получил суровый отлуп со стороны старого францисканца, как и обвинение в неуемной гордыне.
– Гордыня,