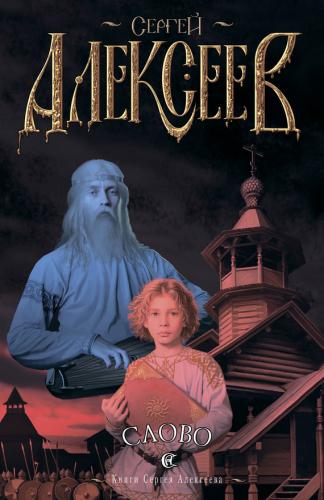– Ополчение под стенами уж, дедушко! – ликовал Улыба. – С богатой добычей идет. А народ-то и не ведает!
– На заре Владимир Русскую землю крестить станет, – сказал Дивей. – Надобно его остеречь. Чужое оно для Руси вольной – христианство. А ты же в хоромину ступай и меня дожидайся. Я ко князю пойду.
– Дедушко! – закричал Улыба. – Отпусти ты меня с учения! Замолви слово перед великим князем! Воевати хочу, во снах баралище видится! Не опозорю славы княжеской! Пускай он в дружину меня возьмет. Лише ты не гневайся, дедушко!
– Ты в учении для иного дела, – осердился Дивей. – Письму тебе надобно учиться и песни слагать. Сиди-ко в хоромине, витязь беспутный.
– Не хочу я хартоларем[20]! Воином быть мне!
Поглядел Дивей на отрока безмудрого, насупился. Жалко Улыбу, но воя из него впрямь бы добрый вышел. Могучим вырос сын холопий, удаль в нем будто пиво бродит. Как-то раз ходили с ним по лесу и на борть[21] наткнулись. А медведюшка – то ее раньше почуял, кружит, орет, пугает. Не уступил борги Улыба. Гикнул, свистнул – и с топориком к медведю. Пока Дивей-то дубье ломал, унот ловконько так космача и срубил. Отпустить бы его, да жалко: в письме лепый[22] и млад еще, не ведает, где ему быть должно.
А не отпустить ли Улыбу и в самом деле? Видно, не нужны нынче песни, а значит, и песенники не нужны…
Склонил Дивей голову, сказал что отрезал:
– Нет тебе пути в дружину.
Улыба снял с головы шелом, повертел в руках и на кол надел.
– Коли не вернусь – к волхвам ступай, – смягчившись, добавил старец. – Я песню свою у них схоронил…
– Дедушко!
Взял Дивей посох и пошел в гору, к терему князя великого, где пылал нынче большой огонь.
– Дедушко! Что же с песней мне делать?.. Дедушко?!
Шел Дивей к великому князю с головой темною, ровно сумерки над Подолом. Не сутулый, не горбатый, а клонилась к земле голова.
Зазнобило той ночью великого князя киевского. Глянет из оконца – костры горят, дружинники его, крещенные, возле стоят, от жара прикрываются, а Владимиру Святославличу холодно. Отхлебнет он меда хмельного – не берет хмель, лишь пуще знобит. И смаку в меде нету, горечь одна. Огляделся князь, а в светлице пусто. Разбежались попы да бояре, и только грек Михаил все еще на лавке сидит, в глаза ему смотрит.
– Ну-ка, поп, подай мне шубейку!
Михаил не шевельнулся, губы поджал и глядит черно.
– Подай, поп! – Ахнул кулаком по дубовой столешнице, ковш с медом расплескался, качнулось пламя свечей и тени на стенах.
– Охолонись, безбожник, – урезал Михаил, – не стучи, я не раб тебе. Я твой духовный наставник и отец святой.
Доверенный боярин в светлице оказался, накинул князю на плечи соболью шубейку, затем нагреб с полу беремя шитых золотом княжеских