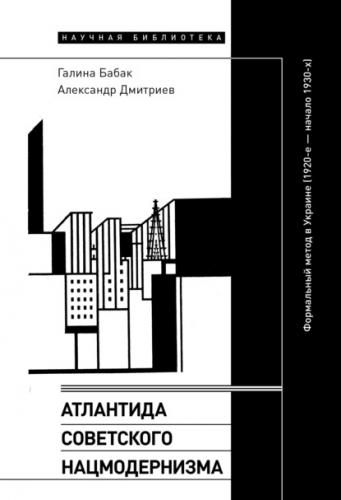Для формирования историографических нарративов конца XIX века важно то, что споры о литературном прошлом привлекают не только профессионалов, но и самих писателей. Так, критика упомянутого в предыдущей главе Пыпина в адрес «сепаратистской» львовской истории литературы Омеляна Огоновского немедленно вызывает в галицкой печати горячий отклик авторитетных приднепровских литераторов, вроде Нечуя-Левицкого[180].
Перетцу ближе был более академичный спор двух киевлян – профессора духовной академии Николая Петрова и историка и филолога-компаративиста Николая Дашкевича середины 1880‐х годов о природе, этапах и движущих силах развития новейшей украинской словесности с конца XVIII столетия[181]. Дашкевич, настаивающий на автохтонных началах (а не только «отражениях» большой русской литературы)[182] был при этом в университете лично близок к «украиноеду» Флоринскому; ту же двойственность (национального/общерусского) в предыдущем разделе мы отмечали у Потебни. Учитель Дашкевича историк Антонович в Киевском университете Святого Владимира в 1870–1880‐е целенаправленно «раздавал» истории разных южнорусских земель от татарских набегов до XVI–XVII веков своим ученикам для диссертаций, формируя, по сути, школу национальной средневековой истории.
Сам Перетц так в педагогическом плане не поступал, исходя скорее из доступности архивных и рукописных источников, но интересовался (также опираясь на более поздние работы Н. Петрова[183]) в истории литературы именно тем периодом, который у Ефремова вызывал отторжение из‐за «школярства» и оторванности от народных начал. Фольклорист Перетц в народных началах разбирался великолепно, но альтернативу всеобъемлющему народническому ефремовскому подходу можно было отыскать не в академической филологии самой по себе, а именно на модернистских путях «искусства для искусства». Этот поиск и происходил с начала ХХ века, преимущественно в западноукраинских землях (например, у Богдана Лепкого[184]), с опорой на символистскую эстетику и ряд теоретических