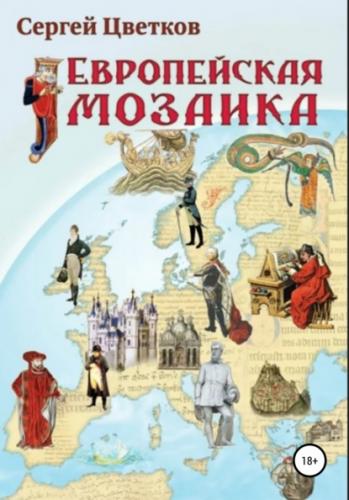Она попыталась еще раз смягчить сердце Людовика XIV. За несколько дней до отъезда она вновь с мольбой упала к его ногам при входе в церковь. Смиренная поза любимицы двора, словно последняя нищенка ожидающей монаршей милости, вызвала в толпе придворных сочувственный шепот. Все поглядывали на дофина. Но король быстро пресёк разговоры, промолвив со своей обычной сухой иронией:
– Прекрасная сцена! Королева католическая мешает всехристианнейшему королю войти в церковь!
С этими словами он грубо отстранил принцессу и проследовал дальше. Свита короля двинулась за ним, никто из придворных не посмел помочь Марии‑Луизе подняться с колен. Дофин с подчёркнутой незаинтересованностью смотрел в другую сторону. Больше всего на свете Марии‑Луизе хотелось застыть, окаменеть здесь, на церковных ступенях, став вечным укором справедливости Всевышнего.
Камеристки почти силой усадили её в карету. Дома, немного успокоившись, она ужаснулась дерзости своих мыслей, но смирение, которым она попыталась облечь своё отчаяние, было так же невыносимо, как слишком узкий корсет.
Через несколько дней всё было готово к отъезду. Кареты Марии‑Луизы, её дам и экипажи горничных стояли запряжённые, чемоданы и сундуки были упакованы и привязаны к повозкам, пятьдесят кавалеров почётного эскорта сидели в седлах. Мария‑Луиза, опустив глаза, подошла к Людовику XIV проститься.
– Государыня, – сказал он, целуя её, и в его голосе слышалась явная угроза, – я надеюсь, что говорю вам прощайте навсегда, потому что величайшее несчастье, которое может случиться с вами, – это ваше возвращение во Францию.
Мария‑Луиза села в карету и поспешно задёрнула занавески. Всё же она сделала это недостаточно быстро, чтобы не дать заметить заблестевших на её ресницах слез. Король, считавший неприличным любое публичное проявление чувств, сделал брезгливую гримасу и подал знак