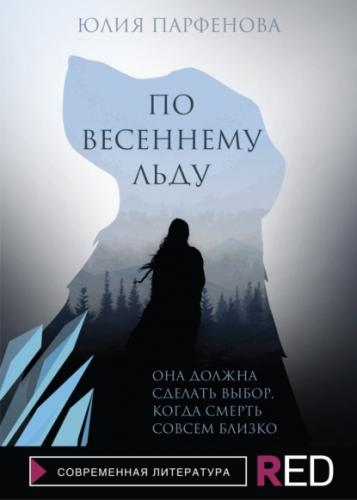– Я тебя слышу, Томка. Слышу тебя везде. Ты со мной разговариваешь. А последний раз ты меня спасла. Я не узнал себя в зеркале. Там был даже не человек моего возраста. Не говоря о внешности. И я разбил зеркало. Взял осколок. Треугольный. Хотел всё закончить. А ты сказала – не смей. Сказала, что я гений, просто никто не знает. Ты сказала, что не бросишь меня. Я ведь сразу понял, что всё правда, иначе как бы я твой голос узнал?
Тома вернулась домой только вечером, причём то время, которое прошло после встречи с Павлом, она помнила нечётко, словно бродила по району, где прошло её детство в состоянии лунатизма. Нет, с одной стороны она хорошо помнила, как после встречи в парке пошла в сторону своей школы. Она не была здесь уже лет десять. Дворы около дома её детства показались ей старыми фотографиями, на которых неизвестный и жестокий владелец ставил кружки с кофе, записывал номера телефонов, просто водил ногтём, оставляя царапины и белые полосы. Да, к своим сорока пяти она уже хорошо знала в лицо этого безжалостного к дорогим тебе вещам безликого вандала – Время. Но смириться с потерями всегда было трудно. Деревья разрослись, закрывая привычные виды, на месте сквера с деревьями, больше, конечно, похожего на пустырь, но такого родного – она ведь всегда глядела на него из окна своей комнаты и даже увлечённо рисовала самое кривое и чахлое деревце клёна, – на его месте теперь въелся в землю выпуклыми корнями подъездов многоэтажный громоздкий дом.
Школа утонула в зарослях кустарников, она не помнила их названия, только калина узнаваемо растопыривала трёхпалые ладошки листьев. Как Тома любила положить осенью в рот горьковатую холодную, блестящую малиновым глянцем ягоду и сморщиться! Пашка всегда морщился вместе с ней и смеялся. Тома пошла по дорожке, которая вела их в детстве к продуктовому магазину за стаканчиком пломбира; они сообща наскрёбывали нужные сорок четыре копейки, а потом, не торопясь, с вафельными стаканчиками, наполненными блаженством, брели в книжный, на соседнем проспекте.
Тома прошлась по заросшим дорожкам около облупившихся домов, смотрела на заполнивших детские площадки громких смуглых детишек, съёмные квартиры в дешёвых пятиэтажках стали излюбленным жильём приехавших на заработки трудовых мигрантов. Матери детишек представляли собой весьма специфическое для мегаполиса зрелище, кто-то накинул длинную куртку на цветастый халат, из-под которого торчали кроссовки, кто-то стоял в носках и пляжных шлёпанцах, несмотря на прохладный весенний вечер. Однако настроение у женщин было хорошее, они громко смеялись, и эхо гортанных голосов мячиком отскакивало от домов, отражавших стёклами окошек прозрачную угасающую синеву неба.
Тома постояла во дворе своего детства, смотрела на окна их квартиры – с маленькими комнатами и длинным коридором. По коридору любил носиться, тормозя со скрипом когтей на поворотах, трёхцветный кот Леопольд. Он умер так давно, что Тома смутно помнила его облик, только