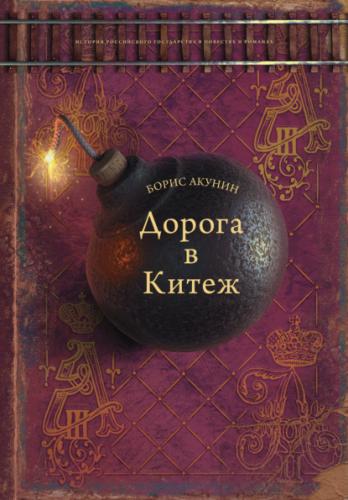Шеренги гвардейского флотского экипажа, перед которыми расхаживал император, застыли неподвижной темно-зеленой массой, лишь черные султаны трепетали над киверами, да колыхались складки георгиевского знамени. Усатые, багровые от холода физиономии были каменны, шевелились только выпученные глаза, провожавшие рюмочно-молодцеватую фигуру самодержца. Его привыкший командовать голос был гулок и звучен, но с Невы дул злой мартовский ветер, рвал торжественную речь на куски, относил их вбок. Даже до переднего ряда долетали только отдельные слова. Значения это не имело, нижние чины звучных фраз все равно бы не поняли. Им и незачем. После командиры что надо растолкуют.
Перед строем тянулись в струнку сын Константин в вице-адмиральском мундире и его худосочный адъютант. Четверть часа назад, перед самым разводом, отец известил великого князя о британском вероломстве, и тот сохранял невозмутимость, подобающую начальнику Морского министерства, но у лейтенантика при слове «война» слегка дернулась голова.
Император гордился своей памятью на лица и имена. Раз кого-то увидев, запоминал навсегда. Вспомнил и фамилию адъютанта – Воронцов. Не из тех, больших Воронцовых, а из другой, захудалой ветви. Сын покойного сенатора Николая Сергеевича, нет Семеновича, да-да Николая Семеновича Воронцова, слуги исправного и честного.
Но офицерик, как и матросы, тоже ровно ничего не значил. Речь на ледяном ветру предназначалась не для своих. Справа – как раз там, куда отлетали чеканные фразы, – куталась в шинели и плащи группа иностранных посланников. Их экстренно вызвали к Адмиралтейству на развод Гвардейского экипажа в высочайшем присутствии. Не явились только двое – британец Сеймур и француз Кастельбажак. Первый наверняка уже готовится к отплытию. Со вторым тоже ясно. Париж – отрезанный ломоть. Сегодня – доподлинно известно – прощелыга Луи-Наполеон, ничтожный племянник великого дяди, тоже объявит войну России. Первостепенную важность сейчас имели послы остальных великих держав, Австрии и Пруссии. Пускай отпишут в Вену и Берлин, что санкт-петербургский лев нисколько не устрашен, а лишь разъярен.
Выпуклые глаза императора обладали замечательным свойством: видели периферию, почти не скашиваясь. Государю нравилось думать, что никакая мелочь не ускользает от их зоркого прицела. И австриец, и пруссак слушали железную речь очень внимательно, строчили карандашами в книжечках. Если что-то и упустят, нестрашно. Нессельроде нынче же разошлет в посольства отпечатанный текст.
Роковое донесение из Лондона было доставлено накануне вечером. От нервов император всю ночь не смыкал глаз. То молился перед иконой святого покровителя Николая Мирликийского, то вскакивал с колен и принимался вышагивать по анфиладе, прикидывая, в каких словах составить манифест. И как повнушительней его объявить. В Исаакиевском соборе? Нет, это будет выглядеть так, будто русский царь испугался и уповает только на Божье спасение. На Государственном Совете? Но что метать бисер перед своими? На большом военном параде? Картина была бы превосходная, но по смыслу глуповато – на огромную Дворцовую площадь не раскричишься, да и весь гвардейский корпус к утру не собрать, а с одними столичными полками выйдет маловнушительно. И главное – какая от сей демонстрации польза?
Наконец придумалось – и полезное, и красивое. В замкнутом с трех сторон дворе Адмиралтейства, где раньше были доки, а ныне компактный плац, устроить развод Гвардейского флотского экипажа. Матросы там – молодец к молодцу. Произнести короткую, энергическую речь в присутствии дипломатического корпуса.
Британия гордится своей морской мощью? Их газеты пишут, что Ахиллесова пята «Жандарма Европы» – слабый флот? Так вот вам туча витязей прекрасных чредой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. А сзади, на широкой воде, поставить новейший пароходофрегат «Гремящий», давеча очень кстати зашедший в Неву.
Вообразил сцену: бравый строй, дым из трубы боевого корабля, массивный корпус Адмиралтейства с золотым шпилем, а в центре – русский самодержец, прямой, уверенный, несокрушимый.
Так всё и вышло. Матросам в центре шеренги казалось, что черный дым поднимается плюмажем прямо из царской двухугольной шляпы.
Концовку речи император прокричал с особой зычностью, глядя поверх киверов и простирая к небу руку в белой перчатке:
– Как мыслит царь русский, так мыслит, так дышит с ним вся русская земля! За веру и христианство подвизаемся! С нами Бог, никто же на ны!
«Ны-ны-ны!» – подхватило эхо, отброшенное желтыми адмиралтейскими стенами.
Устремить очи к облакам у царя не получилось, для этого пришлось бы слишком задрать голову. Смотрел он на окна верхнего этажа морского ведомства. Так и замер грозной