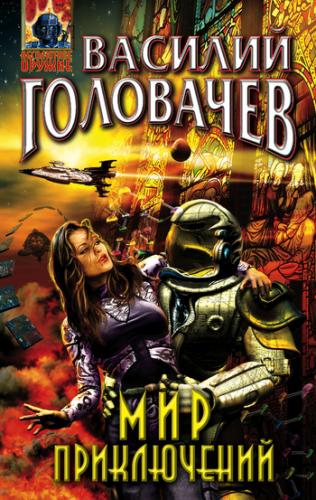Ну да, ты искал ее, искал год, два, а потом? Потом смирился, успокоился. А если она не приехала сама, не дала о себе знать, значит, незачем было приезжать и писать. Ты забыт, давно и прочно, и не стоит напоминать ей о собственном существовании, приятного тут мало. Сиди спокойно, парень, твой шанс упущен два года назад, не стоит ворошить прошлое, любить можно только в настоящем…»
И я, совсем тихий и трезвый, сел неслышно на последнее сиденье вагона, чтобы не терять из виду ее милое лицо с челкой, со слегка оттопыренной в раздумье нижней губой, и смотрел, смотрел, все больше приходя к мысли, что она совершенно не изменилась. Или это шутки памяти? Но нет, она и раньше носила такую прическу… и не красила губы… Я успел отвернуться, когда она подняла голову.
Нет, я никогда не был робким, но в данный момент, несмотря на мучительное желание прижаться щекой к ее нежной, хранящей теплоту моих и, может быть, чужих поцелуев щеке, обнять ее, зарыться лицом в разлив каштановых волос, я лишь судорожно сжимал в окаменевших руках «дипломат», мял душу в болезненный ком и всем телом чувствовал ее недоступную близость, рожденную пропастью времени и неизвестности.
А потом она встала и вышла через вторую дверь. Ноги сами вынесли меня в проход, но в голове пискнула задавленная эмоциями здравая мысль: «А командировка?» – и я смирился.
Наверное, я представлял собой довольно жалкое зрелище, потому что вошедший в вагон пожилой дядя внезапно предложил мне закурить. Я посмотрел сквозь него, и он куда-то испарился вместе с сигаретами и брюшком. Двери электрички захлопнулись, и я понял, что упустил этот последний шанс обрести ту, первую и единственную, о которой не устают писать поэты, а двадцатишестилетние мужики вроде меня вспоминают не раз и не два, но лишь в тех случаях, когда потеря бьет по сердцу до боли, до крови, до короткой, но звериной тоски…
Не помню, как я снова очутился на сиденье в вагоне. Мыслей не было, в голове царил фон серой, щемящей грусти, который пронзали чьи-то выкрики: «Кретин! Растяпа! Шляпа»! – и кое-что похлеще. Лишь сосредоточившись, понял, что оптимист во мне вопит победившему скептику, и приказал им обоим прекратить. Справиться с собой в момент эмоционального кризиса невероятно трудно, это я знаю как профессионал, но и тут я оказался на высоте, подтвердив собственное мнение о своей нервной системе. Горько усмехнувшись, я подумал, что могло бы случиться, если бы она – нервная система – была у меня ни к черту? О своих снах я в этот момент забыл начисто.
За окном бежала зубчатая кромка леса, пылал ало-розовый, в полнеба, закат, а я смотрел на все это великолепие природы и видел только лицо Алены, милое, уходящее, уплывающее, тонущее в розовом сиянии…
Через час, когда я более или менее успокоился, оказалось, что в вагоне, кроме меня, никого нет. Все вышли, и никто больше почему-то не входил. Правда, я и до этого не помнил, были ли в нем пассажиры.