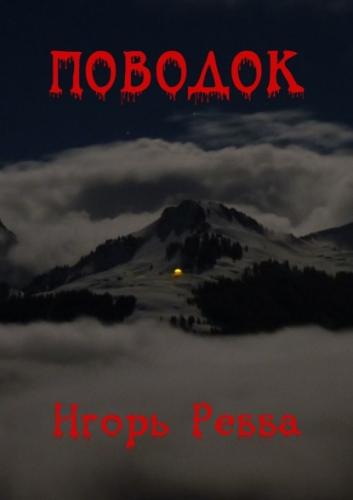– Да есть же! Есть! – весело возразил дедок, подталкивая золото обратно. – Окорок давай неси, лепёшек давай, и вина тоже, сколько не жалко! И хватит! А то мне всё равно много не унести, а с внучка и вовсе помощник никакой – помер он у меня давно.
«Помер!..» – гулко отдалось в голове трактирщика, и ясно уже было, что не ослышался он и не померещилось ему; и ещё сильнее сжалось сердце, будто словами этими вогнал дедок в него толстую ледяную иглу. И от иглы этой воздух вокруг будто бы наполнился холодным и влажным туманом, пронизанным едва слышным звоном хрустальных колокольчиков. Никакого тумана и звона на самом деле, конечно, не было; загляни в трактир посторонний кто – ничего бы и не заметил. Но сам трактирщик дальше словно плавал уже в этом тумане, не очень хорошо различая окружающее, едва слыша звуки сквозь повисший в ушах и набирающий силу звон, и не очень даже понимая, что он сейчас делает.
Он после с трудом мог припомнить, как очутился в погребе, да как окорок с крюка снял; как упихивал его в мешок, да как совал в другой лепёшки; как фляги наполнял вином – хорошим, неразбавленным, для себя припасённым. А в руках всё время деревянный ящичек мешался, куда трактирщик выручку складывал, и где теперь восемь золотых самородков в два ряда лежали, что аж крышка не опускалась. И ещё всё время боялся трактирщик, что дед про молоко вспомнит – ведь хотел же он прежде молока-то. Но потом сообразил трактирщик, что молоко дед хотел для внука, который в ту пору болел, а если внук сейчас помер, то и не надо уже молока ему. И от этой догадки на миг легче стало трактирщику, на один короткий миг – пока не вспомнил он, что умерший внук-то здесь, рядом, за стеною, на улице, под дождём стоит, и наблюдает.
А дедок всё благодарит да кланяется. Но каждый раз, как он взгляд на трактирщика поднимает, мелькает в глазах его что-то такое, что так просто и не объяснишь даже. Ну, как будто жалеет он трактирщика почему-то, сочувствует ему вроде бы, и хотел бы даже помочь, но что-то останавливает – то ли скромность, то ли боязнь настырным показаться, то ли… то ли торчавший на улице внучок…
И только когда старик все припасы на себя нагрузил, в последний раз поблагодарил поклоном и развернулся к дверям, что-то он, видать, решил для себя. Потому как замер на месте, глянул через плечо и тихо так спрашивает:
– Зять-то сильно ль болеет?
И по тому, как он это спросил и какие глаза у него при этом были, ясно делалось, что ответ ему хорошо известен. И трактирщик это тоже понял, потому лишь вздохнул глубоко, да рукой махнул. И вот, между прочим, как только дед о зяте больном речь повёл, так туман загадочный мигом вокруг трактирщика растаял, звон тоскливый в ушах исчез, а ледяную иглу из сердца его словно вынули. Так что каждое следующее слово он слышал очень отчётливо и накрепко всё запомнил, даже взгляд старика и голос его.
– Внучок-то