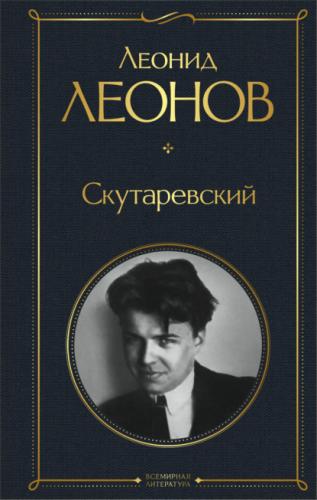– Я предлагаю автору записки назваться хотя бы письменно, – повторил Черимов, и взгляд его остановился на симпатичном Иване Петровиче, с которым познакомился на хорах у Скутаревского.
Тот сокрушенно протирал очки и качал головой, осуждая возмутительную неприличность поступка в столь благородном сообществе. А тем временем звонил со злым и сконфуженным лицом:
– Я требую немедленно… назваться этому гражданину. – Видимо, было ему не до грамматики. – Оскорбительный вызов этого… – он пожевал воздух и попробовал вырвать записку из рук Черимова, но тот не отдавал, – …этого, с позволения сказать, пипифакса позорит всех нас…
Снова в зале поднялся шум, смешанный с раздражением и смехом: какой-то не в меру смешливый человек громко пошутил, что ворота института уже заперты и самый институт оцеплен войсками; некоторые поднялись уходить.
– Я сожалею, – все еще улыбался Черимов, – о трусости моего безграмотного корреспондента. У меня имеется лишний экземпляр биографии Бебеля. Я мог бы послать ему эту книжку даром. Бебель сам был социалист, и, насколько я помню, фраза эта… – ни реплика, ни шорох не прервали паузы, которая у него вышла сама собой, – приведена у покойного ныне врага нашего – Бисмарка. Отмечу, кстати, что на Уссури я охотился на одного, также покойного ныне, атамана, который ругался много цветистей и, по моему убеждению, современней… – Он сел и кивнул Ивану Петровичу, который открыто хлопал ему, кажется, больше всех.
После перерыва Скутаревский отыскал Черимова в коридоре и демонстративно, точно заключал договор дружбы, похлопал его по плечу.
– Вы здорово выросли… хотя так говорят, конечно, только с детьми, которые провинились. Знаете, мне не жалко тех штиблет. Что?… нет, не жалко. Вы, кстати, дайте-ка мне ту поганую записочку… я его сейчас расшифрую, я его в конторе по почерку отыщу.
– Пустяки,