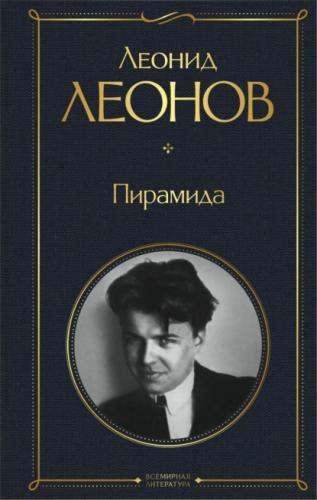встречал вздохом благодарного восхищения за блистательные порою фокусы ума, то уже через полчаса – россыпи пестрых фактов и словесных побрякушек, всегда с оттенком базарного фиглярства и сардоническим подергиваньем губ и глаз – это чередованье обманных ходов и логических зияний начинало действовать, как и всякая качка, погружавшая в гипнотическое оцепененье с некоторыми физиологическими позывами, обычными и при отравлении ложью. Но Шатаницкий обладал опасным даром фанатиков черпать свои доводы из наиболее вразумительных возражений противника, и лучше было молчать с ним, тем более что только непротивлением ненависти можно довести до саморазоблаченья всякую размахавшуюся шарлатанщину. Однако что-то бесконечно древнее, полузабытое людьми, хотя и таилось в основе всех вещей, все сильнее слышалось тогда Никанору в этих своеобразных мистериях, пока из адского, в меловой маске, альбиноса не проступал высокий согбенный и в самой ужасности своей чем-то благообразный старец, ищущий утехи от незаживляемых, потому что непрошенных скорбей в уродливой и беспощадной шутке. Отсюда и рождалось у студента полусочувственное любопытство к его неведомой провинности, покаранной тем самым, что во всех космогониях должно было бы выражать торжество победителей и горе побежденным: бессмертием и мудростью. А там уж не более шажка оставалось до полного оправдания Зла, чего собственно и добивался Шатаницкий… И так как всякий раз потом требовалось по-собачьи сделать содроганье кожи, чтобы отряхнуться от его нечистого очарованья, Никанор заранее изготовился к сопротивлению.
– Как видно, застигшее вас врасплох явление ангела вынуждает меня вкратце, с глазу на глаз, посвятить вас в некоторые предосудительные знания, – сказал Шатаницкий.
– Речь пойдет, милейший Шамин, о стоименном древнем океане, омывающем крохотный островок человеческого сознания с самого его выхода на солнечный свет из пучины. Умственная навигация, хотя постоянно и расширявшая свои лоции, тем не менее всегда зависела от не склонных к шутке, на охрану веры приставленных персон, чьи фантазия и одаренность не простирались дальше уставного догмата и здравого смысла, этого излюбленного компаса посредственности, тогда как конечные истины бытия, не для огласки открою вам, милейший Никанор, начертаны на языке безумия… Наше сожаление прежде всего относится к данной стране, где любая идея в еще большей степени, нежели ее сезонно-укороченное земледелие, в условиях беспощадной континентальности вынуждена бывала вести проповедь с расстегнутой кобурой для сокращения сроков. А то, пока убедишь иного упрямца, глядь и снежок во дворе, а там и до ледника недалеко: все возможно в бескрайних просторах России. Еще неизвестно – басурманской ли трехсотлетней неволей или климатической невозможностью в одно поколение достичь гор златых питается пресловутая, со столь жесткой изнанкой, национальная русская грустинка! Сверх того всем великим доктринам, как и мощным владыкам, свойственно посередь пира с ужасом читать огненные письмена на стене