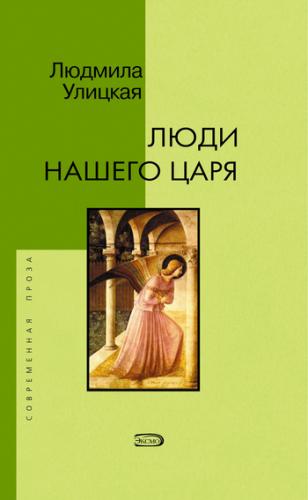Марсель тем временем достал футляр, лежавший за одним из многочисленных столиков, и вынул кларнет.
– Нет, нет, мы так давно не играли, – замахала руками Женевьев, но Иветт сказала:
– Пожалуйста, я тебя очень прошу…
Женевьев подчинилась нежной просьбе.
Господи, да они обожают друг друга, эта девочка и независимая, пытавшаяся удалиться от людей Женевьев, вот в чем дело! – догадалась я наконец.
Был вытащен пюпитр, задвинутый за один из столиков. Марсель протер тряпочкой инструмент, прочистил ему горло, издав несколько хромых звуков. Иветт уже перебирала ноты на этажерке – она знала, что искать. Вытащила какие-то желтые листы:
– Ну, пожалуйста…
Аньес, болтавшая всю дорогу от Экс-ан-Прованс, молчала с того момента, как мы вошли в дом. Когда Марсель взялся за инструмент, она произнесла первые слова за весь вечер:
– Я думала, ты уже не балуешься кларнетом.
– Очень редко! Очень редко! – как будто оправдывался Марсель.
– Нет, Аньес, как бы мы ни хотели, ничего не меняется. Марсель все еще играет на кларнете, – многозначительно заметила Женевьев.
Эйлин переложила малыша: теперь она прижала его спинкой к своей груди, уложив головку в шелковом распадке.
Они начали играть, и сразу же сбились, и начали снова. Это была старинная музыка, какая-то пастораль восемнадцатого века, кларнет звучал неуверенно, и поначалу Женевьев забивала его, но потом голос кларнета окреп, и к концу пьесы они пришли дружно и согласованно. Эта самодельная музыка была живая и обладала каким-то особым качеством, какого никогда не бывает у настоящей, сделанной профессионалами. В ней звучал тот трепетный гам, который слышишь всегда, проходя по коридору музыкальной школы, но никогда – на бархатном сидении в консерватории.
Мари хотела взять из рук Эйлин ребенка, но та покачала головой. И неожиданно для всех встала, прижимая к себе Шарля, и запела. И как только она запела, я ее сразу узнала: это была знаменитая певица из Америки, исполнительница спиричуэлз. Она тоже была участница этого фестиваля, на который я приехала во второй раз, и ее портрет был отпечатан в программке. У нее был огромный низкий голос, богатый звериными оттенками, но при этом в нем была такая интимность и интонация личного разговора, что дух домашнего концерта не разрушался. Потолочные своды, неизвестно для чего устроенные в этом помещении, имевшем в прежней жизни какое-то специальное и загадочное назначение, принимали в себя ее голос и отдавали обратно еще более мощным и широким. Ее большое тело в водопаде шелковой материи двигалось и раскачивалось, и раскачивались огромные цветы, и ее руки с безумными ногтями, и красный рот с глубокой розовой изнанкой в окантовке белых зубов, и Шарль, которого она прижимала к груди, тоже раскачивался вместе с ней. Он проснулся и выглядел счастливым на волнующемся корабле черного тела в малиновых маках и белых лилиях…
«Amusant grace»