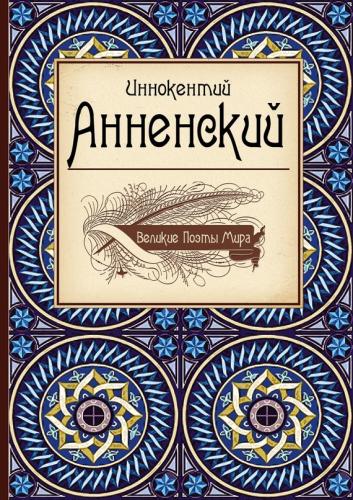Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.
Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.
Это написано человеком далеким от пророчеств, чиновным и лояльным петербуржцем, статским генералом имаститым филологом-классиком, да ипросто пожилым человеком. Политический радикализм ему был чужд, «искать Бога по пятницам» он не мог и не хотел. Всегда знал, что «веры выдумать нельзя», да и, в известном смысле, любил «имперский блеск». Сын поэта вспоминал: «Сложная и многогранная душа Иннокентия Анненского всеже была именно русской душой, всеми тончайшими нитями своими связанная со своей родиной, которую он любил верной, твердой и скорбной любовью». Важнейшее свидетельство! Стихотворение выношено «верной, твердой и скорбной любовью». Железный стих, глухая интонация, несколько штрихов петербургского ландшафта, плиты, камни, мгновенья жутких исторических воспоминаний, мужественно-спокойное видение будущего страны, «гиганта на скале». И все неумолимо стремится к одному – к чудовищному пустяку (детали памятника Петру), к попранной змее – злу. «Царь змеи раздавить не сумел, // И прижатая стала наш идол». Так явлена «проклятая ошибка», исторический тупик, неизбежность расплат. Явлена строго, без рефлексий и философской истерики о концах мира сего. В стихах вызревает, кроется за каменной грандиозностью тема возмездия, его неотвратимости… столь жгуче-важная и у Александра Блока. Зло никогда не было попрано, оно – «наш идол». Так «тревожная душа человека XX столетия», застигнутого приближающейся бурей, принимает вызов судьбы, не склоняясь перед ним. Этой душе еще неизвестен «сдавшейся мысли позор». Сознание всеобщего неблагополучия окрашивает поэзию Анненского в тона жуткие:
Какой кошмар! Все та же повесть…
И кто, злодей, ее снизал?
Опять там не пускали совесть
На зеркала вощеных зал…
Превращение людей в заводные игрушки миропорядка, двойничество человека, его отчаянная борьба с отмеренным судьбой временем (часы, стальная цикада часов, мерный ход маятника) преследовали Анненского:
О чьем-то недоборе
Косноязычный бред…
Докучный лепет горя
Ненаступивших лет.
Где нет ни слез разлуки,
Ни стылости небес,
Где сердце – счетчик муки,
Машинка для чудес…
Я завожусь на тридцать лет,
Чтоб жить, мучительно дробя
Лучи от призрачных планет
На «да» и «нет», на «ах!» и «бя»…
Лирика Анненского всегда, или почти всегда, загадочна. И происхождение этой загадочности коренится не в сложности, шифрованности, смысловой смутности и ускользающих от рационального постижения намеках, а в особой психологической резкости, рождающейся будто из ничего,