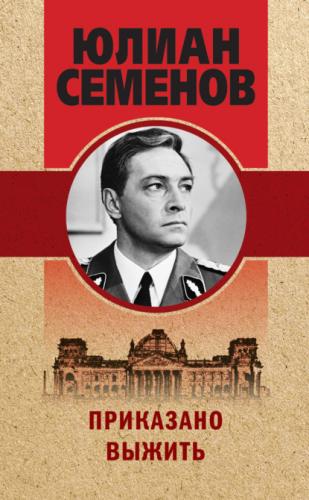Штирлиц устало поднял глаза: в продольном зеркальце была видна пустая улица – ни единой живой души.
«Ну и что? – возразил он тому в себе, кто успокоился оттого, что слежки пока не было. – В этом государстве вполне могли вызвать трех соседей и поручить им фиксировать каждый проезд моей машины, всех машин, которые едут ко мне, всех велосипедистов, пешеходов и мотоциклистов… И ведь безропотно станут фиксировать, писать, сообщать по телефону… Но я отвожу главный вопрос… И задаст его мне Шелленберг… Со своей обычной улыбкой он предложит написать отчет о моей работе в Швейцарии в те дни, когда я засветил Вольфа. Он попросит дать ему отчет прямо там, в его кабинете, – с адресами, где проходили мои встречи с пастором, с номерами телефонов, по которым я звонил… А в Берне они вполне могли поставить за мною контрольную слежку… Я ведь был убежден, что получу разрешение вернуться домой, и я плохо проверялся. Ты очень плохо проверялся, Исаев, поэтому вспомни, где ты мог наследить. Во-первых, в пансионате «Вирджиния», где остановился Плейшнер. Очную ставку с тем, кто привез мою шифровку на конспиративную квартиру гестапо «Блюменштрассе», обещал мне Мюллер… Плейшнер не дал ему этой радости, маленький, лупоглазый, смелый Плейшнер… Но тот факт, что я интересовался им, приходил в пансионат, где он остановился, – если это зафиксировано наружным наблюдением, – будет недостающим звеном в системе доказательств моей вины… Так… А что еще? Еще что? Да очень просто: Шелленберг потребует вызвать пастора. «Он нужен мне здесь, в камере, – скажет он, – а не там, на свободе». «Это целесообразно с точки зрения дела, – отвечу я, – мы имеем в лице Шлага прекрасный контакт для всякого рода