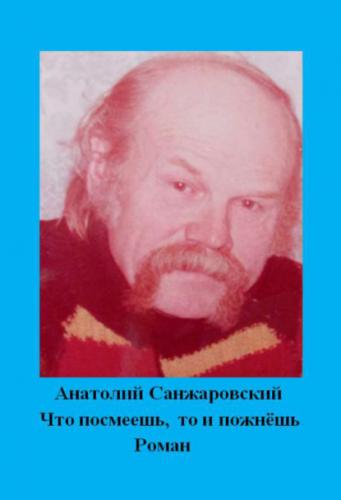Мне не нравилась эта его нарочитая внимательность. Выпалить про это я не решался, не желая в первый же час щёлкать его по самолюбию.
Не давай обгонять себя, и его внимательность кончится, сказал я себе. Оттого дальше мы шли уже быстрее, поскольку, приближаясь к дереву, он убыстрял шаг, убыстрял и я, стараясь первым пройти мимо торчащих веток с вислыми прозрачными капельками.
И так мы разогнались, что на свою площадку на втором этаже он, кажется, не поднимался по гулкой ярко-оранжевым выкрашенной лестнице, а попросту вспорхнул и поклонился двери – нагнулся разуться перед порогом.
Всё пространство у порога было закидано детской и прочей обувкой.
Из прихожей роскошные дорожки текли на кухню и в вопиюще-просторную гостиную, из гостиной – ещё в две боковые комнаты; в одной (двери были настежь), в детской, на кровати плашмя лежал растянутый баян.
Как на выставке, все стены сплошь одернуты дорогими коврами. Дорогие шкафы и всё дорогое в шкафах, дорогая посуда под стеклом в серванте и всего одна полочка в том же серванте под книжками, да и та наполовину пуста. Как-то жалко стоят внаклонку одни недодранные Лялькины старые, уже не нужные ей учебниковые книжки с первого по седьмой класс.
Не без грусти я взял букварь, стал потихоньку листать.
– Ты чего тормознул там? – выглянул Митрофан из кухни. – Давай-ка, как говорит Людка, рулюй сюда!
Когда я вошёл на кухню, Митрофан стоял уже перед наотмашку распахнутым холодильником на коленях, выискивал что-то глазами.
– Ты что, солярку[158] в холодильнике держишь? Не простудится?
– У меня, Бог миловал, ещё ни одна не простудилась. Даже не кашлянула.
Он засмеялся.
В глазах у него затолклись больные кровавые огоньки.
Я спросил, не болен ли он.
– Смотря что, – отвечал Митрофан, – понимать под болезнью. В твоём понимании, возможно, слегка и есть…
– Лечишься?
– В обязательном порядке! Бурого медведя[159] не держим. А… Сразу захорошеет, как хряпнешь гранёный вот этой магазинной микстуры. – Напоследок он выловил-таки в холодильнике поллитровку, устало-торжествующе перекрестил ею себя. – Наконец-то! А я уже было труханул, не пропало ли мое лекарствие…
Он так и сказал на старушечий лад: лекарствие.
Сковырнул с верха посудины белую бляшку, пошёл бухать в сдвинутые гранёные стаканы.
Отдёрнул я один стакан к краю стола, накрыл кулаком.
Митрофан, с сожалением глядя на пролитую по столу водку, что нитяной струйкой кралась к краю стола и чвиркала на пол, подивился:
– Полный неврубант! Не понимаю столичного юморка.
– Ты или первый день замужем? Ну когда-нибудь пил я эту отраву?
– Угощают. Чего ж не употребить этого чудила под такой закусон? – Вилкой он тенькнул по миске с вечорошними подгорелыми оладьями в сметане. – А я грешен, обожаю на дармовщинку.