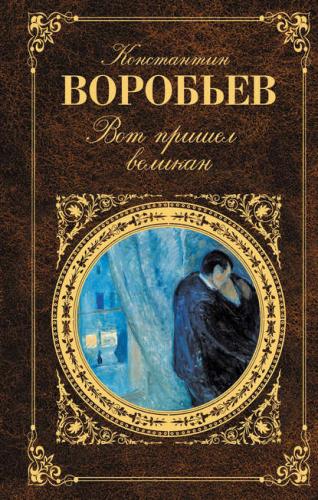– А у кого нетути? – прижмурился дядя Мирон.
– Смотря чего, – сказал Михан.
– Хлеба, к примеру!
– Кузьма про сало с мясом спрашивает.
– И про хлеб. Мне лучше знать, об чем он спрашивает. А сало тоже, почитай, у всех! – стоял на своем дядя Мирон, и было трудно понять, чем он вдохновлен – убеждением, что так это и есть, или желанием, чтобы у всех в Ракитном было сало. Мне не хотелось, чтобы Михан возражал, и я спросил его о другом:
– А что с садами?
– Повырубили к чертовой матери, – с тихим остервенением сказал он.
– На топку?
– От налога. Обкладывали ж каждый живой дрючок, рожает он что или так стоит…
– А чего о другом молчишь? – вкрадчиво спросил дядя Мирон. – Разводим же опять! В любом дворе загородка!
– Это верно, – сказал Михан, – сады будут.
– Второй год как тветут, а «не будут», – заявил дядя Мирон. Михан растерянно посмотрел на него, а мне сказал:
– Ох и поперечный же человек! Ты ему с начала, а он завсегда с конца… Ну у кого это они цветут? – обернулся он к дяде Мирону. – Третий год только, как разводить люди начали!
– У тебя ж у самого тветет! – с укором сказал дядя Мирон. – И у меня тоже. И у свата Сергеича, и у Матюшной Доньки…
– Ну ладно, забирай, твое! – махнул рукой Михан и засмеялся.
– Если б я не сидел, – тенорком сказал дядя Мирон и закашлялся, загородившись ладонью.
– Что тогда было бы? – насторожился Михан, но дядя Мирон не отвечал, и, учуяв, видно, какой-то скрытый упрек себе, Михан спросил с обидой: – Я что, по-твоему, не сидел?
– Ну сколько ты там! Две недели, – смущенно сказал дядя Мирон.
– Хрен съели! Как-нибудь восемь месяцев оттерпужил!
Впору было бы выпить и помолчать, – мне не хотелось отсюда, из нашей с Миханом хаты, возвращаться мыслями на Север, но Михан смотрел на меня и ждал вопроса, а спрашивать надо было дважды – когда сидел и за что.
– В пятьдесят первом, – сказал он. – Да меня дальше Медведовки не увозили. В КПЗ там продержали…
– А за что сидел?
– За Милочку-лесовиху, за что ж больше! – сказала Нюшечка, входя в хату с глазурованным горшком в руках.
– Да брось ты молоть, – как о надоевшем сказал ей Михан. – При чем тут лесовиха!
– А ты расскажи, не стыдись. Ну какая тут оказия! Дело ж прошлое…
На печке, в соседстве, наверно, с моими петухами, давно уже чурюкал сверчок. У меня не было сил и желания противиться тому печально-отрадному наплыву воспоминаний, которые будил этот мохнатолапый запечный музыкант, поверенный моих первых тут снов, и все, о чем я вспоминал, мне хотелось пережить снова. Я сидел и как начало радостного стиха мысленно твердил: «Жизнь благо, и бремя ее легко». Я не знаю, кто и когда изрек эти слова, но это сказано о живой жизни на земле, обо всех, кто на ней живет, радуется и страдает… Да, жизнь в этой старой русской хате – благо, и Михану нельзя тут рассказывать то, о чем просил его дядя Мирон, – я все равно не услышал бы этого рассказа.
И Михан не стал рассказывать.