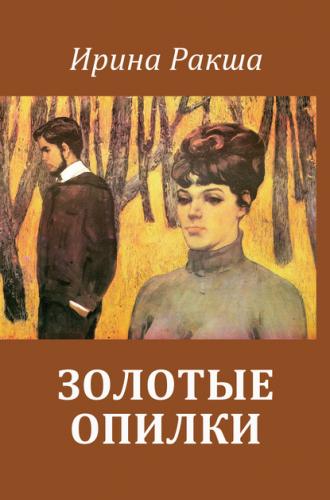Москву он любил. Часто, отправляясь по магазинам столицы со списком покупок, составленным его сибирскими жёнами, тайно ехал в Останкино – посидеть там в раздумье на Третьей Останкинской где-нибудь на скамеечке возле наших бараков, повспоминать прошлое. Но к маме не заходил. Видно, боялся не выдержать, плюнуть на всё и… остаться. Но в Сибири у него давно были дети, семья… Первая на Алтае, в Красноярске – другая.
Жил отец там, в общем-то, скверно. Сам стирал, сам квасил капусту на зиму, сам детей растил, сажал огород. Однако папу спасал характер: лёгкий и чуть озорной. Он, чудак, до последних дней верил в лучшее будущее. Был искренне предан идее коммунизма (за неё и кровь в войну проливал), который обманывал и его, и миллионы людей…
А годы бежали, бежали. На селе все ждали его машину – ни с чем не сравнимую, урожайную! И газеты о ней писали: в «Правде», в «Известиях» Георгий Радов, Владимир Овечкин, Юрий Черниченко – самые смелые, острые в этой области журналисты. Ну а писем со всей страны отец получал мешками!.. У него чертежи просили, описание машины. И он посылал, посылал…
На Ставрополье, на Кавказе, в Крыму (и где-то ещё) некоторые колхозы-совхозы в своих мастерских самодельно мастерили его культиватор. И долго, удачно сеяли, получая высокие урожаи. И отец к ним летал. В общем, имя этого упрямого мужика – Ракшá – стало в сельском хозяйстве легендой. Были даже решения ЦК (!) о включении его сеялки в поточное производство. Но и эти постановленья увязали в глубоком болоте режима… И широкого хода машине так и не дали.
Ещё бы! Наивный был человек! Я уже говорила: как, ну как в те годы могла ходить по полям машина с названьем «Ракша-62»? Это же не «рено», не «мерседес» какой-нибудь! Тем более не «Сталинец-80» или ЗИЛ-110.
В СССР такое не проходило. Умереть было легче… И он умер.
Эх, папа-папка, милый мой Дон Кихот! Взрывной, одержимый, вечно толкующий только про урожаи, про сошники и зерно, живший от посевной до уборочной! Я в жизни часто слышала от людей: «Ирина – вся в отца… Ну вылитый отец…» Невольно этим гордилась. И только теперь, с опозданием, пытаюсь разобраться в тебе, мой дорогой папа, да и в себе.
Твоя в чертах моих улыбка, / И сила в двух моих руках… Ах, родной ты мой мечтатель! Простодушно-нелепый мой сочинитель. Ты мог ночью, тихонько, чтоб не будить нас с мамой, подняться с постели и в трусах, босиком направиться к кульману. И чертить, чертить до рассвета, переступая босыми ногами по холодному полу, какой-нибудь только что придуманный узел – «дисковый сошник».
Ты – вечный командированный, теряющий на своём пути семьи: и жён, и детей. Ты – вечный танкист, орденоносец, победивший фашизм, а в мирное время шагающий в кирзовых сапогах и плаще из брезента. В сапогах – по разбитым полям. Ради хлеба, ради урожая и родины. Ты даже на фотографиях вечно стоишь у тракторов и комбайнов по колено в грязи!..
Нет, не в грязи. В земле! В родной своей, целинной,