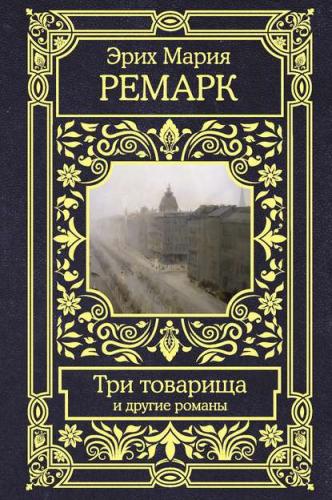– Вы никому не помешаете, – заявила фройляйн Мюллер, с которой вдруг слетела вся важность. – Кроме вас, здесь никто не живет. Все прочие комнаты пусты. – Она постояла немного, потом встрепенулась. – Вы будете есть в этой комнате или в столовой?
– Здесь, – сказал я.
Она кивнула и вышла.
– Итак, фрау Локамп, – обратился я к Пат, – вот мы и въехали. Но я никак не ожидал, что в этой старой чертовке окажется столько церковности. Кажется, я ей тоже не приглянулся. Странно, обычно я пользуюсь у старушек успехом.
– Это не старушка, Робби, а очень милая старая дева.
– Милая? – Я пожал плечами. – Во всяком случае, в манерах ей не откажешь. Ни души в доме, а столько величия в поведении!
– Да нет в ней никакого величия…
– По отношению к тебе.
Пат рассмеялась.
– Мне она понравилась. Но давай притащим чемоданы и достанем купальные принадлежности.
Проплавав целый час, я лежал на песке и грелся на солнце. Пат еще оставалась в воде. Ее белая шапочка то и дело мелькала в синих волнах. Кричали чайки. По горизонту медленно тянулся пароход, оставляя за собой развевающееся дымное знамя.
Солнце пекло. Оно расплавляло всякое желание сопротивляться бездумной, сонной лени. Я закрыл глаза и вытянулся во весь рост. Горячий песок похрустывал. В ушах отдавался шум слабого прибоя. Что-то мне все это напоминало, какой-то день, когда я точно так же лежал…
Было это летом тысяча девятьсот семнадцатого года. Наша рота находилась тогда во Фландрии, и мы неожиданно получили несколько дней для отдыха во Фландрии – Майер, Хольтхоф, Брегер, Лютгенс, я и еще несколько человек. Большинство из нас еще ни разу не были на море, и эта толика отдыха, этот непостижимый перерыв между смертью и смертью превратился в настоящее безудержное упоение солнцем, песком и морем. Мы по целым дням пропадали на пляже, распластавшись голышом на солнце, – ибо лежать голым, не навьюченным оружием и униформой уже было почти что миром. Мы резвились на песке, мы снова и снова бросались в море, мы с невероятной, только в это время возможной силой ощущали биение жизни в своем теле, в своем дыхании, в своих движениях, мы забывали в эти часы обо всем на свете и хотели обо всем забыть. Но вечерами, в сумерках, когда солнце закатывалось за горизонт и от него бежали по потускневшему морю серые тени, к рокоту прибоя постепенно примешивался другой звук, он усиливался и наконец заглушал все, словно глухая угроза, – то был грохот фронтовой канонады. И тогда случалось, что стихали разговоры и наступало вымученное молчание, заставлявшее тянуть шею и напряженно вслушиваться, а на радостных лицах наигравшихся до устали мальчишек снова проступали суровые лики солдат, словно бы высекаемые внезапно, нахлынувшим изумлением, тоской, в которой сошлось все, чему не было слов: горькое мужество и жажда жизни, преданность долгу, отчаяние, надежда и глубокая загадочная печаль тех, кто был смолоду отмечен перстом судьбы. Через несколько дней началось большое наступление, и уже к третьему июля от роты осталось всего тридцать два человека,