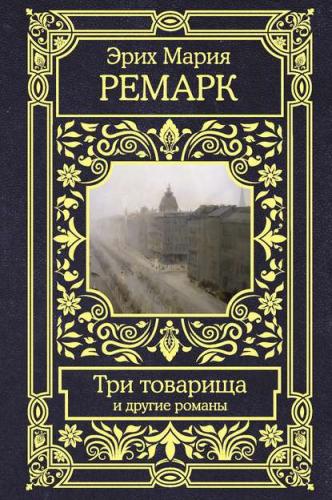Он стоял в дверях, занимая весь проем своей массивной фигурой.
– Давайте под кров, дети мои, – сказал он. – Таким, как мы, ночью нечего искать у природы. Ночью она хочет побыть одна. Крестьянин или рыбак – это еще дело другое, а у нас, горожан, все инстинкты давно отмерли. – Он положил руку на плечо Готфриду. – Ночь – это протест природы против засилья цивилизации, Готфрид! Приличный человек не в состоянии подолгу выносить это. Он замечает, что его вытолкнули из немого круга деревьев, животных, звезд и бессознательной жизни. – Он улыбнулся своей странной улыбкой, о которой нельзя было сказать, является ли она выражением радости или печали. – Входите же, дети мои! Согреем руки у костра воспоминаний. О чудесное время, когда мы были еще хвощами и ящерицами, лет эдак пятьдесят – шестьдесят миллионов назад… Господи, как же мы с тех пор опустились…
Он взял Пат за руку.
– И если бы мы не сохранили в себе хоть немного чувства красоты, все было бы потеряно. – С нежностью медведя он положил ее ладони на свой локоть. – Серебряная капелька звездной магмы, повисшая над грохочущей бездной, не согласитесь ли выпить стаканчик с первобытных времен человеком?
– Соглашусь, – сказала она. – Со всем, что хотите.
Они пошли в дом. Они выглядели как отец и дочь.
Стройная, смелая и юная дочь усталого великана, уцелевшего от былинных времен.
В одиннадцать часов мы поехали обратно. Валентин с Фердинандом в такси, которое вел Валентин. Остальных вез «Карл». Ночь была теплой, и Кестер поехал окольным путем, мимо вереницы деревень, прикорнувших у дороги. Они провожали нас редкими огоньками и одиноким лаем собак. Ленц сидел впереди рядом с Отто и пел песни; мы с Пат примостились сзади.
Кестер замечательно вел машину. Повороты он брал как птица. Он все делал будто играючи, столько в нем было уверенной в себе силы. Он ехал вовсе не жестко, как большинство гонщиков. Можно было спать, не просыпаясь и на виражах, настолько спокойно и плавно шла машина. Скорость совершенно не ощущалась.
По звуку шин мы узнавали об очередной смене дорожного покрытия. На асфальте они посвистывали, на брусчатке глухо рокотали. Лучи наших фар убегали далеко вперед, как две гончие светлой масти, вырывая из темноты то трепещущую на ветру березовую аллею, то строй тополей, то вознесенные над приземистыми домами телеграфные столбы, то застывшие, как на параде, ряды лесных просек. Беспредельно высоко над нами, пронизанный тысячью звезд, курился и таял бледный дым Млечного Пути.
Темп нарастал. Я укрыл Пат еще и своим пальто. Она улыбнулась мне.
– Ты меня любишь? – спросил я.
Она покачала головой.
– А ты меня?
– Нет. Какое счастье, не правда ли?
– Великое.
– Ведь в таком случае с нами ничего не может случиться, а?
– Ничегошеньки, – сказала она и нашла под пальто мою руку.
Шоссе спикировало по широкой дуге к железной дороге. Поблескивали рельсы. Далеко впереди раскачивались красные