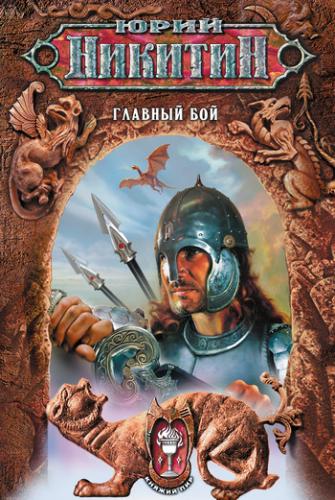Тот уже стоял в боевой стойке, топор держал в обеих руках. Добрыня надменно поинтересовался:
– Я долго буду ждать, пока наденешь доспехи?
– Они мне не понадобятся, – ответил Батордз. – Тебя раскачивает как тростник на ветру.
– Я не знаю, что такое тростник, – ответил Добрыня, – но ты и без ветра как камыш в бурю. Что ж, умрешь без доспехов.
Он сделал шаг, начал поднимать секиру. Древко все пыталось выскользнуть, он стиснул зубы и напомнил себе, что чужак без щита и доспехов, в простой вязаной рубашке. Один удар… даже не молодецкий, не богатырский, а просто один удар зазубренной секиры закончит этот самый страшный и долгий поединок за всю его жизнь.
Секира, тяжелая, как железная гора, приподнялась до пояса. Руки тряслись, мышцы кричали от боли, суставы трещали. Затихшая за ночь боль с готовностью вонзилась во все ушибленные и раненые места. Сквозь стиснутые зубы вырвался тихий стон, и, чтобы прикрыть его, он издал хриплый рык, злой и свирепый.
Чужак с перекошенным лицом стоял напротив в двух шагах и тоже пытался вскинуть огромный топор, покрытый крупными каплями росы. Он был похож на вставшего из могилы, такой же ослабевший, дрожащий от усилий удержаться на ногах.
Взревев, Добрыня бросил вперед свое тело. Чужак успел растопырить руки, роняя топор. Они тяжело рухнули на землю, перекатились и, расцепив руки, остались как два извалянных в грязи бревна, не в силах подняться и даже шевельнуть хотя бы пальцем.
Наверху выгнулся быстро голубеющий свод. Облачка плыли медленно, белые, как овечки. На востоке вспыхнуло красным и оранжевым. Темный край земли заискрился, оттуда пошло бьющее высоко по своду сияние. После томительного ожидания высунулся искрящийся, как раскаленная заготовка меча, краешек солнца.
Чужак прошипел сипло:
– Клянусь этим высоким небом… я еще не встречал более достойного противника…
– Если честно, – прошептал Добрыня, – мне тоже такое дерьмо не попадалось…
– Но, клянусь этим небом, я все-таки тебя одолею.
– Сопли утри, – посоветовал Добрыня вяло.
Он не чувствовал в своем голосе вражды или ненависти. И не потому, что смертельно измучен, а просто чистое синее небо, уже стрекочут кузнечики, где-то зачирикала птаха, воздух на ночь очистился, наполнился пронзительной свежестью, а вдохни глубже – режет как нож. Или же это впиваются в измученную плоть при каждом вздохе сломанные ребра.
– Я вобью тебя в землю по уши, – продолжал Батордз.
– Умойся.
– Я разорву тебя в клочья…
– Онучи замотай.
– Я затопчу тебя как муравья…
– Давай-давай… Кто воевать не умеет, тот языком горазд. Ты не Фарлаф, случаем?
Батордз с трудом повернул в его сторону голову:
– Кто такой Фарлаф?
– Есть