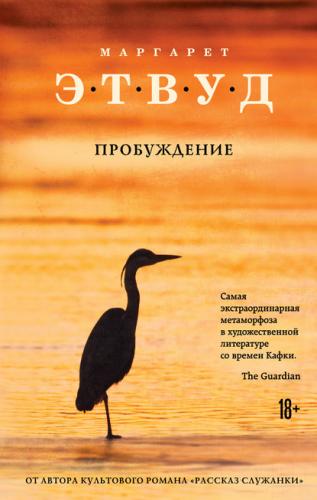Я лежу какое-то время с открытыми глазами. Раньше это была моя комната; Анна и Дэвид в комнате с картой, а в этой мои рисунки. Красотки в экзотических костюмах, на лоб спадают колбаски куделей, красные губы бантиком и ресницы, как зубная щетка: когда мне было десять, я была в восторге от гламура, для меня это была своеобразная религия, и это были мои иконы. Их руки и ноги застыли в эффектных позах, одна рука в перчатке на бедре, одна ступня выставлена вперед. Туфли похожи на копытца, каблуки под прямым углом один к другому, коралловые платья без бретелек, как у Риты Хейворт, с балетными юбочками в точках, означавших блестки. Я тогда рисовала не очень хорошо, пропорции слегка искажены, шеи слишком короткие, а плечи широченные. Должно быть, я имитировала бумажных кукол, которых видела в городе, картонных кинозвезд – Джейн Пауэлл, Эстер Уильямс – с раздельными купальниками, прикрывающими их тела, и вырезанными стандартными пижамами и кружевным бельем. Такие куклы покупали маленьким девочкам в серых кофточках и белых блузках, с искусственными косичками, пришпиленными к их головкам розовыми пластиковыми заколками, и они делали с ними что хотели: приносили в школу и играли на переменках, елозя по потертой кирпичной стене, ставя ногами в снег, надевая бумажные одежки на ледяном ветру, придумывая для них танцы и вечеринки, торжества с нескончаемой сменой платьев – рабство удовольствий.
Под картинками, в ногах кровати, на гвозде висит серая кожаная куртка. Грязноватая, кожа потрескалась и облупилась. Я не сразу узнаю куртку – ее давным-давно носила мама и держала в карманах семечки. Я думала, она ее выбросит; ей здесь теперь не место, отец должен был избавиться от нее после похорон. Одежду умерших нужно хоронить вместе с ними.
Я поворачиваюсь на другой бок и отжимаю Джо дальше к стене, чтобы устроиться поудобнее.
Когда через какое-то время я пробуждаюсь, Джо уже не спит, он вылез из-под простыни.
– Ты разговаривал во сне, – говорю я ему.
Иногда я думаю, что он больше разговаривает во сне, чем наяву.
Он уклончиво что-то мычит.
– Есть хочу, – говорит он, а потом спрашивает: – Что я говорил?
– Как обычно. Спрашивал, где ты и кто я.
Мне бы хотелось побольше узнать о его сне; раньше и мне снились сны, но больше не снятся.
– Ну, значит, ничего нового, – говорит он. – Это все?
Я отбрасываю простыню и опускаю ноги на пол, преодолевая себя: даже в середине лета ночи здесь холодные. Я быстро одеваюсь и иду топить печь. Анна уже в общей комнате, все еще в нейлоновой ночнушке без рукавов и босиком, она стоит перед тусклым желтоватым зеркалом. На столешнице перед ней раскрытая пудреница – она наносит макияж. Я понимаю, что впервые вижу ее ненакрашенной; без румян и подведенных глаз ее лицо непривычно помятое, лицо потрепанной куклы; ее искусственное лицо и есть настоящее. Руки у нее с тыльной стороны в мурашках.
– Здесь