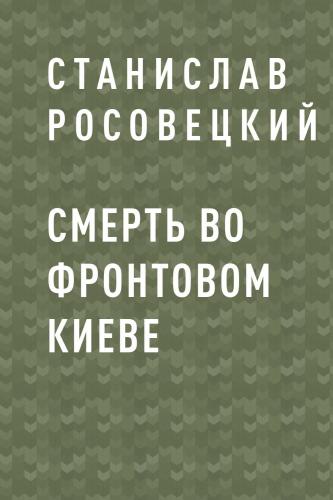Неужто не наслушался ещё об этом за две-то недели? Вопрос Генкин, ко всей компании обращенный, Сураев проигнорировал. Сидит, заставляя себя не смотреть на часы, однако спиной чувствует движение стрелок по кляксе стенных часов – модерновых, с чёрной лоснящейся физиономией неизвестного Сураеву поп-идола. Тени его однокурсников мечутся по стене, оклеенной весёленькой клеенкой, и, на тени только глядя, можно подумать, что друзья-приятели не изменились за эти двадцать с довеском лет. Друзья-приятели? Шамаш подумал, что из собравшихся так можно назвать разве что их с Генкой. Между прочими отношения не то что сложнее, однако уж более холодные. Лишь сейчас, когда встречу пора бы и заканчивать, задался он вопросом: почему Пашка посадил их на кухне? Комнаты свободны, ведь Танька с детьми давно в Москве у родственников. Она, что ли, наперед запретила? Вот так навела дисциплинку… Быстро оглянулся. Мало того, что на два часа пересидели комендантский час, установленный в «дэржавной» зоне, – на восемь уже минут погрузились в ту глухую пору, когда патрули умоновцев палят без предупреждения, а обыватель, досматривая спугнутый сон, перебарывает инстинктивное стремление скатиться с дивана под подоконник: выручай, стена-матушка!
– Кто начал стрэлять? Из прэссы ни черта не разберёшь! – Генка сочувственно блеснул идеально белыми, едва ли настоящими зубами. Сураев попытался вспомнить, какими они, зубы, были у Генки-студента, но не смог. В чём – в чём, а в зубах у них тогда нехватки не наблюдалось. Беспечность Генкина понятна: что ему, с его удостоверением чиновника ООН и с греческим паспортом, комендантский час? Да патруль под белы руки проводит до гостиницы. Смешно это – бояться комендантского часа, когда три года прожили, каждую секунду ожидая прямого попадания. Столько раз наперёд умирали, что теперь уж комендантский час страшнее. Хотя… Сураев невольно поежился, вспомнив, как беззвучно сверкнуло на тихой Рейтарской прямо у него под носом, но осколки и булыжники, вывороченные из древней мостовой, чудом обошли. Ну стукнуло, не без того, вроде как стенкой из твердого воздуха, с ног сбило, однако… Такое везенье не повторяется, а с ним повторилось. В первый раз – на настоящей войне, в пустыне, где разрывы размётывают песок, вылизывая в нём воронки, и после артналета вечно отплевываешься… Что?
– И не перебивай меня, Павлик, лукавый ты лицедей! – наморщил мощный лоб Толик Басаман. Бог мой, остатки волос совсем седые… Что ж, он и на курсе был старше всех: пришел тридцатилетним, да ещё после академотпуска. Тогда они не знали, что тот год Толян провел в Павловке. С тех пор попадал в психушку, по меньшей мере, ещё дважды, и теперь Сураев побаивается, что выпитое за этим кухонным столом не пойдет Толяну на пользу…
– Как началось, спрашиваешь? Ну задрались с нашими, васильковскими казаками эти чубатые, луганские у Верховной Рады…
– Нет, нет! – стрельнула глазами на него и одновременно на всех Милка, единственная (но какая!) дама за их столом. – Все ведь знают, что началось с надписей на почтовых ящиках…
– С философской точки зрения… – всё тем же, на школьной, видать, ещё скамье выработанным небрежно-гаерским тоном протянул Пашка и вдруг заткнулся. Никто, кроме Генки, не смотрел на него, потом и Генка, ухмыльнувшись, отвёл глаза. Все они тут закончили философский, но едва ли кто – и восточный человек Юрка О Дай в данном случае не составит исключения – рискнул бы назвать себя философом.
Милка, на время превратившаяся снова в доцента Людмилу Федоровну, замяла неловкость, принявшись с профессиональным апломбом пересказывать самую популярную, оскомину всем набившую версию повода для распри, разделившей два с половиною года назад славный город на три враждующие общины. Радуясь поводу потаращиться на Милку, Сураев лениво припомнил: сегодня только она одна не поддержала разговора об их специальности, точнее о записи в их дипломах. Ведь никакие они не философы и в лучшем случае могли бы стать, вон вроде Милки, «катедер-философами» – так у немцев, народа точного, называются профессора философии, зарабатывающие на хлеб изложением чужих мыслей. Ей, впрочем, и горя мало… А завёл тот разговор Пашка, заявивший, что все, кто успел при Советах защитить кандидатскую, выиграли ещё больше, чем сами думают: у людей в дипломах значится вполне пристойное «Кандидат философских наук», а у нас, не остепененных, хоть никому не показывай – «Марксистско-ленинская философия».
– А что оно такое, «философские науки»? – пробормотал тогда Сураев. Никто его и не расслышал, потому что Генка вперил в Пашку грозный взор и прорычал:
– Тэбе что, советская власть не нравится?
И захохотал. Прочих шутка не рассмешила. А сейчас уже Милка, похоже, сама первая разволновалась.
– …объяснениям уже не верил. Виданное ли дело – писать белой краской на почтовом ящике «рэ» для того только, чтобы знать, кому совать «Вечерку» на русском? Дураков нет: это русские квартиры вырезать! И вдруг телефонные звонки евреям: ждите, такие сякие, погромов! Народ давай вооружаться. А националисты тут как тут: свастики, тризубы, шествия по Крещатику с автоматами, с факелами – и вроде бы так и надо!
– Классическая фашистская провокация, –