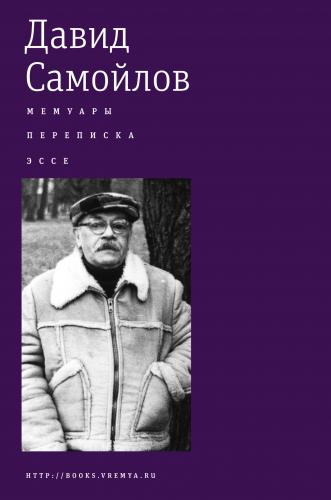Она мягка как воск, как зеркало ясна,
И вся Природа в ней с оттенками видна.
Нельзя ей для тебя единою казаться
В разнообразии естественных чудес.
Взгляни на светлый пруд, едва-едва струимый
Дыханьем ветерка: в сию минуту зримы
В нем яркий Фебов свет, чистейший свод небес
И дерзостный орел, горе один парящий;
Кудрявые верхи развесистых древес;
В сени их пастушок с овечкою стоящий;
На ветви голубок с подружкою своей
(Он дремлет, под крыло головку спрятав к ней) –
Еще минута… вдруг иное представленье:
Сокрыли облака в кристалле Фебов зрак;
Там стелется один волнистый, сизый мрак.
В душе любимца муз такое ж измененье
Бывает каждый час; что видит, то поет,
И всем умея быть, всем быть перестает.
Далее Карамзин представляет изменчивый лик поэта, который с равным энтузиазмом воспевает сельскую идиллию и успехи просвещения, безнадежный стоицизм и чувствительную слабость, героизм и его тщету, счастье любви и ее горести, дабы резюмировать: «Противоречий сих в порок не должно ставить». Не должно, ибо такова природа поэта, чье дело «выражать оттенки разных чувств», «не решить, но трогать и забавить». «Протеизм» извинителен и, пожалуй, приятен, но вместе с тем глубоко сомнителен. Несколькими годами раньше, в игровой сказке «Илья Муромец», Карамзин восклицал:
Ах! не все нам горькой истиной
мучить томные сердца свои!
ах! не все нам реки слезные
лить о бедствиях существенных!
На минуту позабудемся
в чародействе красных вымыслов!
‹…›
Ложь, Неправда, призрак истины!
будь теперь моей богинею…
Неравная себе, переливающаяся всеми цветами радуги, обольстительная и условная Поэзия, в сущности, лжива, она может увести на миг из мира «бедствий существенных», но воспринимать ее всерьез нельзя.
Пройдет три десятилетия, и «протеизм» предстанет не только сутью поэзии, но и залогом ее величия – Протеем (тем самым античным божеством, которое у Карамзина воплощало поэтическую ложь) Гнедич назовет Пушкина, а тот откликнется посланием-манифестом «С Гомером долго ты беседовал один…»:
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой.
Таков прямой поэт. Он сетует душой
На пышных играх Мельпомены
И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены.
То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Вослед Бовы и Еруслана.
От такого «протеизма» совсем недалеко до «всемирной отзывчивости». Но не менее важно, что он накрепко связан с идеей автономии, самодостаточности поэзии, цель которой (по известному письму