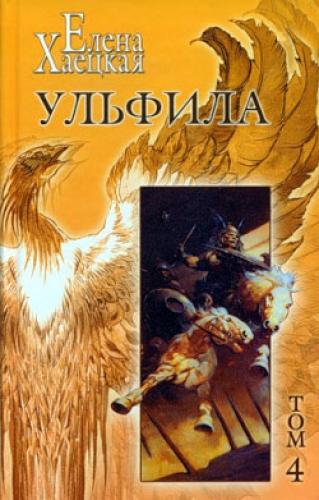Подходит Мариночка, наша одноклассница.
– Вы чего здесь смеетесь?
Мы мгновенно становимся серьезными.
– Ты читала Керка Монро?
– Нет, а кто это?
Мы переглядываемся, негодуя.
– Как?!! Не знать Керка Монро! Ты Стивенсона-то хоть читала?
– Да…
Хатковская торжественно заявляет:
– Так вот, Стивенсон – жалкое подражание Керку Монро!
– А вы читали, да?
– Да! – гремит Хатковская.
Мариночка – тихая, спокойная, доверчивая девочка.
– А где вы достали?
Я говорю похоронным голосом:
– У Кожиной. Да ты попроси ее, она завтра с удовольствием принесет. Вон она идет, она еще недалеко ушла.
Мариночка простодушно догоняет Кожину. До нас доносится злобный рев озверевшей Натальи. Мы хохочем.
Это было 3 марта 1980 года.
Чем бесполезнее знание, тем более привлекательным кажется оно мне. Во мне живут толпы людей, знакомых и любимых по книгам. Я переживаю их жизни, пишу их предсмертные письма, и моя голова сотни раз падает в корзину. Иногда я даже не могу с уверенностью сказать, что живу именно свою жизнь, потому что родилась где-то во Франции в 60-е годы XVIII века и росла среди философов и влюбленных. Моя молодость совпала со штурмом бастилии, и республиканские пушки гремят в моих ушах. Иногда мне кажется, что эти громы слышны всем, и тогда необъяснимым становится спокойствие окружающих. Они не знают, что корольарестован. А я знаю! Нет, выше моих сил молчать об этом. Я всю перемену, размахивая руками, говорю обо всем, что происходит в Республике, Наталье и Хатковской, своим любимым товарищам, с которыми я прошла все победоносные кампании Императора в Италии, где нас встретила тринадцатилетняя Джина. Потом она станет герцогиней Сансеверина и полюбит Фабрицио дель Донго. А сегодня она любит нас, голодных, оборванных, влюбленных французов!
Мы были с Императором в России и видели его страшные глаза, в которых отражался московский пожар. Это нам он сказал:
– Какой народ! Варвары… Но какой народ!..
И мы ответили:
– Да, сир.
И мы брели по синему снегу, ломая затупившиеся штыки, и синие сумерки дрожали под нашими окровавленными ногами. Мы брели по снегу, а невдалеке, развалясь в седле, смотрел на нас маленького роста молодой казак с седой прядью на лбу. За ним стояли партизаны. Но они не стреляли в нас. Они молча смотрели, как мы бредем по синему снегу.
И тут началось раздвоение. Потому что этот казак с седой прядью на лбу был тоже – мы. Безумно жаль нам было этих одиноко бредущих к границе людей, у которых осталась только родина и бежавший от них император. Но и тех, кто разбил их наголову, мы любили самозабвенно.
Мы шли вперед за нашим барабаном,
За барабанщиком, как дьявол, рыжим,
И ордена последние и раны
Мы получили прямо под Парижем.
И наш полковник юный на колени
Вставал перед разбитым барабаном
И левою рукой (мешала