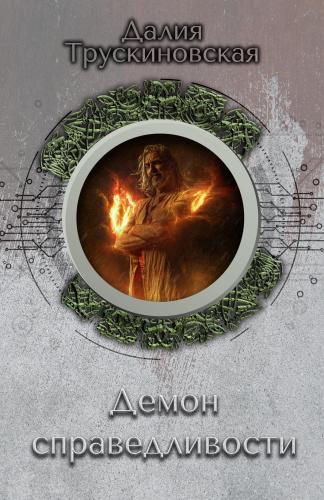Но я доверяла именно Зелиалу, этому туманному и зябнувшему на ветру бесу. Один экземпляр договора я оставила себе – что тоже его ввергло в недоумение. Зачем бы мне нужен документ, удостоверяющий, что моя душа продана? Скорее уж, как во все времена, я должна была стремиться уничтожить и единственный экземпляр. Но у меня дома хранилась уже стопка договоров с кооперативами и домами культуры, и иногда приходилось взывать к ним в спорах с администрацией. Трудно даже предположить, какой спор мог бы у меня возникнуть с адом, но договор должен лежать в стопочке – и точка!
Бюрократическая беседа немного развлекла нас. А потом небо посветлело, и мы поняли, что пора расставаться…
Жизель знала любовь только в наивнейшем ее проявлении – прикосновении пальцев к пальцам, ласке взора, найденных на пороге цветах. Радость плоти была ей незнакома. Ее тело знало лишь легкий и светлый восторг танца. И потому, обнаружив, что уж теперь-то она принадлежит танцу всецело, Жизель была счастлива. Тело лежало под крестом – неподвижное, никогда не знавшее женской радости тело. Без груза плоти Жизели было куда легче крутить свои пируэты. Ей не о чем было жалеть.
И ни одна из виллис, этих умерших до свадьбы невест, не знала женской радости. Возможно, кого-то соблазнили и бросили, возможно, кого-то скосила болезнь накануне того момента, когда близость должна принести счастье. Возможно… Если бы виллиса изведала то, ради чего мужчина и женщина ложатся в одну постель, во всей полноте, она не могла бы так беззаботно танцевать – ведь радость танца меркла бы в сравнении с той, другой радостью.
Все это белое облако знало лишь одно блаженство – блаженство певучего, отточенного, невесомого движения. Оно не могло в порыве пылкого воспоминания простить свою жертву – ему нечего было вспоминать.
Когда-нибудь я вольюсь в это облако на равных, без сожаления о своей тренированной и избалованной плоти.
Потому что мне нечего вспомнить.
Расставшись с Зелиалом, я понеслась искать следы своего маньяка. Но он, видимо, обул другие кроссовки – не светились в переулке контуры подошвы и каблука, не звала меня шаг за шагом Сонькина кровь. Мне оставалось одно – пока и впрямь не наступило утро, перекидываться птицей и мчаться напрямик сперва к Соньке – как она там? – а потом к себе, потому что в сумке, что осталась у Соньки, пропотевший купальник и пыльные от валянья на грязных матах лосины. О носочках я уж молчу. Ничто в мире не заставит меня надеть вчерашние носочки. Так что следовало взять дома все чистое и вообще принять душ.
Сонька угомонилась и заснула. Я оставила