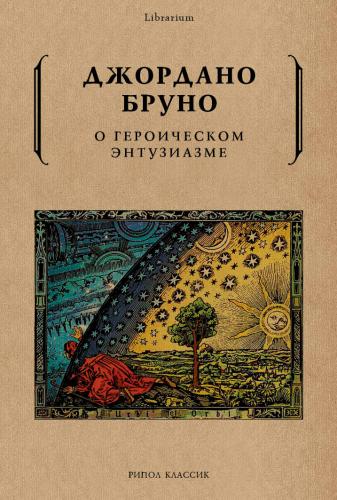Непростой вопрос, и консенсуса по нему по-прежнему нет, почему через пятнадцать лет скитаний и зная, что на родине ему угрожает преследование по старым, но так и не снятым обвинениям в ереси, он всё-таки решает вернуться в Италию. Возможно, ему представлялось, что политическая, а значит и религиозная конъюнктура вот-вот поменяется в выгодную для него сторону, и старое поэтому никто уже не помянет. Возможно, он верил, что – если что – ему будет под силу, используя связи (и он правда считал, что они у него всё еще есть!..) или хотя бы собственные навыки, хитрости и добродетели, выйти из схватки с римскими инквизиторами победителем – или хотя бы не побежденным. А может, он просто доверился своей счастливой звезде и решил, что проскочит, уйдет незамеченным, вновь обведет вокруг пальца не изгнанного покамест, всё еще торжествующего зверя. Что толку гадать – ничто из всего перечисленного так и не сработало.
Венецианец Джованни Мочениго, знатный, богатый и якобы жадный до знаний, тот самый, что пригласил многоопытного беглеца обратно в Италию с целью учить его, Мочениго, луллиевому (по имени логика Раймунда Луллия) великому искусству памяти, оказался в итоге не благодетелем, не благодарным учеником, но тем еще проходимцем и, хуже, доносчиком. Затаив на высокого гостя некую злобу (был или не был тот Мочениго изначально агентом инквизиции – также открытый вопрос, но скорей всего нет), он сперва запер еретика у себя на чердаке, затем сообщил куда следует об удачной поимке. Пленника, беглеца и смутьяна бросили в камеру и начали тяжбу – она будет длиться около восьми лет, вплоть до пришествия нового века. Правда, венецианские власти, формально не зависимые от Святого Престола, не сразу выдадут заключенного, однако представители папы сумеют надавить на верные точки, и вскоре светские лидеры республики сдадутся – этот безумец не стоил того, чтобы портить из-за него и так напряженные отношения с Римом.
А в Риме процесс набрал обороты, к нему подключились тогдашние звезды всея инквизиции вроде кардинала Роберто Беллармино (позже он включится также и в дело Галилея), пункты обвинения, ранее сводившиеся только к доносу Мочениго, пополнились упорными и, разумеется, еретическими заявлениями самого подсудимого – и дело дошло до костра.
Приговор огласили 8 февраля 1600 года, а 12 февраля привели в исполнение.
Он был сожжен в Вечном городе на Кампо ди Фиоре, т. е. на Поле цветов. Кафедру в Падуе, на которую вроде бы претендовал казненный, занял еще в самом начале процесса молодой математик Галилео Галилей – очень скоро и этот ученый столкнется с гневливой церковной толпой. Однако его не сожгут, лишь изолируют, и он даже сможет работать, пускай и больной, и стесненный.
Вот так и заканчивалось Возрождение, и на пороге стояло огнем окрещенное Новое время.
Филиппо Бруно, имя в монашестве и в посмертной славе – Джордано, являет собой наиболее полный, видный и яркий символ указанной смены эпох. В нем очень много от будущего, от светлого, яростного и амбициозного, не говоря уж о том, что дьявольски умного, века Модерн, но еще больше в нем от века ушедшего, точно схваченного в названии, данном ему Вазари: Возрождение – века, исходно готового стать для века грядущего Золотым, потерянным раем для будущих поколений, эпохой титанов, на плечи которых, по верному замечанию одного марксистского классика, впредь суждено забираться всё новым и новым наследникам и потомкам его героического почина. Бруно, еще раз, смог объять всё – он слишком большой, чтобы мерить его лишь одной эпохой, даже такой титанической. Так, для начала, характеризует его знаток культуры и философии Возрождения, чудесный историк Александр Горфункель: «…монах-доминиканец, доктор римско-католического богословия, привычный к ученым турнирам Тулузского и Виттенбергского университетов, поразивший своими смелыми речами аудитории Оксфорда и Сорбонны, основатель «философии рассвета», «сын отца-солнца и матери-земли» – бывший монах, бывший доктор богословия, бывший профессор, бежавший из Неаполя и Парижа, отвергнутый Марбургом и Франкфуртом, изгнанный из Женевы и Гельмштедта, «академик без академии», расстрига и арестант»[1].
И верно, мы прежде всего видим в Бруно ученого, больше – великого мученика ранней, еще не окрепшей науки, оставившего стремительно устаревающие поповские бредни ради яркого света разума, за что ему и отомстила озлобленная, тем самым предчувствовавшая свое скорое поражение, церковная реакция. И с этим нельзя не согласиться – ведь, правда, расстрига, отступник, смутьян, потому что ученый, мыслитель, в общем, человек будущего, человек разума, а не веры…
В том числе против этой навязчивой веры направлена ранняя и прошедшая через всю – впрочем, короткую – жизнь Бруно тяжба с Философом-Аристотелем, влияние которого, как мы знаем, через главного католического теолога, ангелического доктора Фому Аквинского образовало интеллектуальный фундамент для Римской Церкви. И вот об этом учителе и мудреце, великом Философе дерзостный Бруно говорит следующее: «…из всех философов, какие только имеются, я не знаю ни одного, в большей степени опирающегося на воображение и более удаленного от природы, чем он; если же он и говорит иногда превосходные