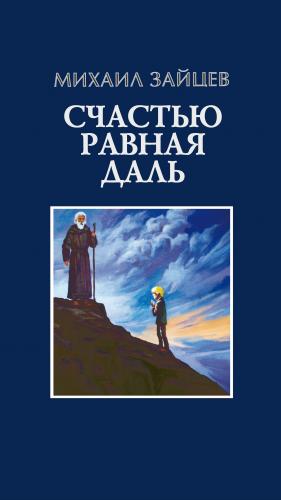Друг Данильченко вспомнился.
Знатным он был рыбаком.
Честным был человеком.
Кому же светлее,
Мне иль им,
запорошенным белым песком?
Всем, наверно, несладко.
Пустое – вздыхать и сердиться.
Жизнь есть жизнь,
В свой черёд кувыркнётся вверх дном.
Станет чёрною-чёрной
сожжённая солнцем страница,
Станут белыми-белыми
строчки о рае земном.
«Старая, почерневшая от времени…»
Старая, почерневшая от времени,
лодка скользит по воде.
Вёсла сырые помнят
всех перевезённых поимённо.
Помнит их всех
каждый волосок у старика в бороде —
Рад перевозчик любому,
на всех он глядит влюблённо.
Вроде бы как безработный,
а нет ни секунды простоя.
Словом, конвейер, текучка,
времени нету зевнуть.
Кто же несчастлив в итоге,
если осенней листвою
Не заметает время
жизненный старца путь?
Вспомнить-то нечего —
старец с самого дня рожденья.
Вечность и та моложе,
старше его лишь сны.
Эк, если б воля его,
занялся б рыбы уженьем,
Знатные в этой речке водятся сазаны.
Это он знает точно.
Но обречённо, хмуро
Вновь окунает в воду вёсла,
глядит во тьму.
Вон она ждёт у берега,
смерть, эта мудрая дура,
Не прошептавшая на ухо тайну свою ему.
«Этому мальчику две тысячи восемь лет…»
Этому мальчику две тысячи восемь лет,
Семь полных месяцев
и двадцать четыре дня.
Этот мальчик зажигает свет
И прибавляет в лампе живого огня.
Расширив глаза, затаив дыханье,
Смотрит на лампу,
на огонь и его колыханье.
Томительно смотреть,
как чужая душа трепещет.
Близятся сумерки.
Наступает дождливый вечер.
Мальчик берёт лампу,
выходит на прохладную улицу.
Прохожие мимо бегут,
от дождя проливного сутулятся,
Холодно телу,
душа где-то теплится в пятках.
Обегают мальчика,
надоел им мальчишка