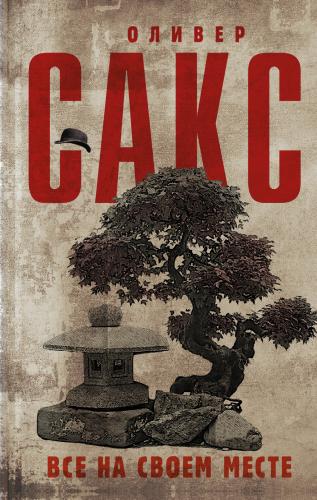Но не экзотические гиганты приковывали мое внимание. Я любил, особенно в залах насекомых и моллюсков, открывать ящики под стендами, чтобы увидеть все разнообразие, все особенности отдельного вида, узнать место его обитания. Я не мог, подобно Дарвину, отправиться на Галапагосы и сравнить вьюрков на всех островах, зато мог проделать нечто подобное в музее. Я был «как будто» натуралистом, воображаемым путешественником и мог объездить весь мир, не покидая Южного Кенсингтона.
А когда музейные работники привыкли ко мне, передо мной иногда распахивались массивные запертые двери в закрытую зону нового Исследовательского корпуса, где кипела настоящая музейная работа: полученные со всех концов света образцы сортировались, изучались, препарировались; выделялись неизвестные ранее виды – порой для них устраивали специальные экспозиции (одна была посвящена целаканту – недавно обнаруженной ископаемой рыбе Latimeria, которая считалась вымершей еще в меловой период). Я целые дни пропадал в Исследовательском корпусе, пока не отправился в Оксфорд; Эрик Корн провел там целый год.
Я любил старинную обстановку музея – стекло и красное дерево, и пришел в ярость, когда в 1950-е, в мои университетские годы, интерьер музея стал современным и безвкусным, и там начали устраивать модные выставки (ставшие в конце концов интерактивными). Джонатан Миллер разделял мое отвращение и мою ностальгию. «Я безумно тоскую по той подернутой сепией эпохе, – однажды написал он мне. – Ужасно хочется, чтобы все внезапно вернулось в зернистый монохром 1876-го».
Перед Музеем естествознания был разбит чудесный сад, над которым возвышались стволы Sigillaria, давно вымерших ископаемых деревьев, и разнообразные хвощевидные Calamites. Меня тянуло к этой доисторической ботанике почти с болезненной силой; если Джонатан тосковал по зернистому монохрому 1876-го, то меня привлекал зеленый монохром, саговые леса юрского периода. В юности мне даже снились по ночам гигантские древовидные плауны и хвощи, первобытные гигантские голосеменные леса, покрывающие земной шар, – и я просыпался в ярости оттого, что все это давно исчезло, а мир захватили яркие современные цветковые растения.
От ископаемого юрского сада Музея естествознания было не больше сотни ярдов до Геологического музея, почти всегда пустующего, сколько я знаю (к сожалению, этого музея больше нет; его коллекцию передали Музею естествознания). Здесь таились сокровища, созерцание которых могло доставить особое удовольствие терпеливому понимающему взору. Там был гигантский кристалл сульфида сурьмы – антимонита –