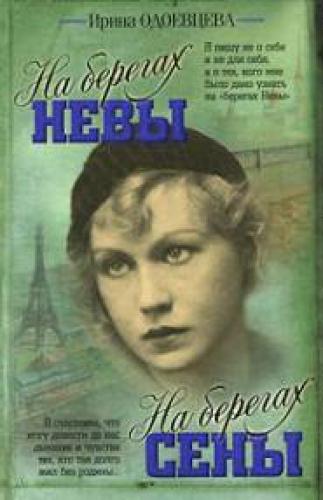Но в те дни я не верила не только в возможность быть расстрелянной, но и просто в опасность. «Кай смертен», и с ним, конечно, случаются всякие неприятности. Но меня это не касается. У меня было особое чувство полной сохранности, убеждение, что со мной ничего дурного не случится.
Зима 1919–1920 годов. Очень холодная, очень голодная, очень черная зима.
Я каждый день возвращаюсь поздно вечером из Института живого слова одна. По совершенно безлюдным, темным – «хоть глаз выколи» – страшным улицам. Грабежи стали бытовым явлением. С наступлением сумерек грабили всюду. В полной тишине, в полной темноте иногда доносились шаги шедшего впереди. Я старалась приблизиться к ним. Мне и в голову не приходило, что сейчас может вспыхнуть свет электрического фонарика и раздастся грозное: «Скидывай шубу!», мою котиковую шубку с горностаевым воротничком. Я ее очень любила. Не как вещь, а как живое существо, и называла ее Мурзик.
Мурзик нравился и Гумилеву. Иногда утром, зайдя неожиданно ко мне, Гумилев предлагал:
– А не прогулять ли нам Мурзика по снегу? Ему ведь скучно на вешалке висеть.
Я всегда с радостью соглашалась.
Проходя мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шапку и истово осенял себя широким крестным знамением, «на страх врагам». Именно «осенял себя крестным знамением», а не просто крестился.
Прохожие смотрели на него с удивлением. Кое-кто шарахался в сторону. Кое-кто смеялся. Зрелище действительно было удивительное. Гумилев, длинный, узкоплечий, в широкой дохе с белым рисунком по подолу, развевающемуся как юбка вокруг его тонких ног, без шапки на морозе, перед церковью, мог казаться не только странным, но и смешным.
Но чтобы в те дни решиться так резко подчеркивать свою приверженность к гонимому «культу», надо было обладать гражданским мужеством.
Гражданского мужества у Гумилева было больше, чем требуется. Не меньше, чем легкомыслия.
Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал:
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.
По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием возмущенных слушателей.
Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов.
Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него.
И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали.
Всем стало ясно: Гумилев победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали.
– А была минута, мне даже страшно стало, – рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. – Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос, «краса и гордость красного флота», вынуть свой небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как палил в «портрет моего государя». И заметьте, без всяких для себя неприятных последствий. В революционном порыве, так сказать.
Я сидела