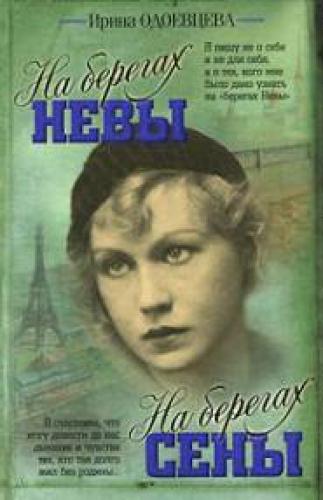Я ежилась от таких речей. Надо действительно быть всецело преданным поэзии, чтобы выдержать эту «учебу».
Я не пропускала ни одной его лекции и дома исписывала целые тетради всевозможными стихотворными упражнениями.
Сколько рондо, октав, газелл, сонетов я сочинила в те дни!
Был уже май месяц, когда Гумилев, войдя в класс, заявил:
– Сообщаю вам сенсационную новость: на днях открывается Литературная студия, где главным образом будут изучать поэзию.
И он стал подробно рассказывать о Студии и называть имена писателей и поэтов, которые будут в ней преподавать.
– Вам представляется редчайший случай. Неужели вы не сумеете им воспользоваться? – Он оглядел равнодушные лица слушателей. – Боюсь, что никто, – и вдруг протянул руку, длинным пальцем указывая на меня, – кроме вас. Ваше место там. Я уже записал вас. Не протестуете?
Нет, я не протестовала. Мне казалось, что звезды падают с потолка.
Гумилев был прав – из «Живого слова» никто, кроме меня, не перешел в Литературную студию.
Литературная студия открылась летом 1919 года.
Помещалась она на Литейном в доме Мурузи, в бывшей квартире банкира Гандельблата.
Подъезд дома Мурузи был отделан в мавританском стиле «под роскошную турецкую баню», по определению студистов.
Когда-то, как мне сейчас же сообщили, в этом доме жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, но с другого подъезда, без восточной роскоши.
В квартире банкира Гандельблата было много пышно и дорого обставленных комнат. Был в ней и концертный зал с эстрадой и металлической мебелью, крытой желтым штофом.
В первый же день Гумилев на восхищенное восклицание одной студистки, ощупавшей стул: «Да весь он из серебра. Из чистого серебра!» – ответил тоном знатока:
– Ошибаетесь. Не из серебра, а из золота. Из посеребренного золота. Для скромности. Под стать нам. Ведь мы тоже из золота. Только для скромности снаружи высеребрены.
«Мы», конечно, относилось к поэтам, а не к студистам.
Впрочем, из студистов, не в пример живословцам, многие вышли в люди, и даже в большие люди.
Одновременно со мной в Студию поступили Раиса Блох, талантливейший рано умерший Лева Лунц, Нельдихен, еще не успевший кончить школы Коля Чуковский и Вова Познер, Шкапская и Ада Оношкович-Яцына.
Ко времени открытия Студии Гумилев уже успел многому научиться и стать более мягким. Разбор стихов уже не представлял собой сплошного «избиения младенцев». Ни Коле Чуковскому, ни Вове Познеру, ни Лунцу не пришлось пережить того, что пережила я.
Напротив, все для них сошло гладко и легко – как, впрочем, на этот раз и для меня.
На первой лекции Гумилева мы сами читали свои стихи, и Гумилев высказывал снисходительные суждения.
Помню стихи, которые читал