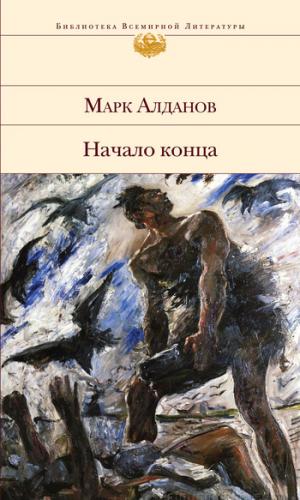Мысли эти его взволновали, он прочел во второй раз, на словах «Mitteln Kräften» была как будто неувязка. «Может, простая опечатка? Да не в том дело…» Из этих слов, очевидно, следовали выводы, имевшие значение для всей его работы, как-то по-новому оправдывавшие его жизнь. Однако в третьем часу ночи Тамарин был не в силах обдумать прочитанное и знал, что если начнет об этом думать, то не заснет. Он хотел было заложить угол, но пожалел: уж очень хорошо было издание – и решил запомнить страницу: 148. «Сто сорок восемь, – сказал он вслух и спросил себя, нет ли мнемонического приема: восемь вдвое больше, чем четыре, но первая цифра… – Да, разумеется, буду помнить: сто сорок восемь», – подумал он и заснул. Спал он много хуже обыкновенного, снились ему вещи бессмысленные, великий князь играл с Клаузевицем в винт, и в карты им смотрел царь Петр, Клаузевиц прорезал на шлеме, оставил противников без ста сорока восьми. «На ять сыграли, Клаузевиц Иванович!» – сказал в восторге Петр Великий.
На этом Тамарин проснулся и что-то еще мог с улыбкой вспомнить из нелепого сна. «Царь Петр тут при чем? Кажется, год как о нем не думал!..» (Только дня через два случайно вспомнил, что в яхт-клубе на стене висел портрет Петра.) За окном светились огни. Поезд стоял. Генерал взглянул на часы: шесть. Не граница ли? Посмотрел в окно и, увидев при тусклом свете фонарей офицера в немецком мундире, ахнул: «Германия!» Он наскоро оделся, надел пальто, поднял воротник и вышел, чувствуя непонятное волнение.
Со времени войны он за границей не был. Накануне они проехали через Польшу, но ему как-то трудно было считать Польшу «заграницей», а Варшаву, где он в молодости состоял в штабе генерал-губернатора, столицей иностранного государства. «Вот это настоящая заграница… Не так собирался сюда войти двадцать два года тому назад…» Одни чиновники страшного вида проверяли паспорта, другие – багаж. В советский дипломатический вагон никто не заглядывал; самый страшный из чиновников только обменялся несколькими словами с секретарем, который, видимо, был и перепуган, и счастлив. Затем чиновник приложил руку к козырьку и отошел, впрочем, без большого почтения на лице. Генерал, вздрагивая, гулял по перрону. Все тут неопределенно его волновало, особенно вид немецкого офицера. Этот офицер искоса на него поглядывал, видимо, тотчас безошибочно признав в нем военного; и Тамарин, разумеется, сразу заметил все перемены в германском мундире. Почему-то при виде офицера он пожалел, что вышел из вагона небритый и без воротничка. Ему хотелось выпить кофе или лучше чего-нибудь немецкого, например, данцигской водки. Но в ранний утренний час на перроне еще ничего не продавали. Начала работу только газетная будка. Генерал нерешительно оглянулся: его положение было очень прочным, бояться как будто ничего не приходилось, но, может быть, все-таки было бы лучше немецкой газеты не покупать (да еще сразу, на первой станции: «набросился!»). Он рассердился и купил газету; сложил ее вдвое, спрятал в карман и вернулся в свое купе. «Собственно,