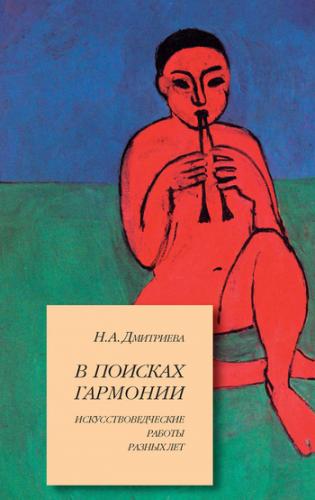У Иванова и Стасова были разные понятия о «перевороте» и «новом пути» в искусстве. Иванов видел его не в отказе от религиозной темы, но в ее новом осмыслении и наполнении – масштабном, философическом и одновременно строго историческом, связанном с «живым воскрешением древности». Он полагал, что это несовместимо с живописью культовой, церковной, и потому задуманные им циклы картин должны были помещаться отнюдь не в церкви. По той же причине он негодовал на итальянских художников, которые, «разбирая по камню католическую церковь», получают у нее заказы на роспись церковных стен.
Однако, беседуя с Герценом и Огаревым, художник говорил не только о внецерковности своей работы, но и о том, что «утратил веру». Если так, значит, он действительно находился в жестоком разладе с самим собой. Можно ли было в таком состоянии духа создавать гармонический библейский цикл? Ведь Александр Иванов был не из тех, кто мог творить вопреки убеждениям.
Однажды А.П. Чехов высказал такую мысль: «Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его; и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало». Русский человек Александр Иванов по условиям времени, среды, воспитания приучен был к четкой бинарной формуле: «верую» – «не верую», середины не дано. (Хотя в Евангелии есть знаменательные слова: «Верую, Господи, помоги неверию моему».) Но обладая ищущим умом, хотел знать много и, отдаляясь в умственных поисках от одной крайней точки, временами готов был считать себя оказавшимся в другой крайности, исключающей веру, что приводило его в смятение. Не противоречило ли вере отцов уже одно то, что он подходил к христианству аналитически? Он мог так думать, так «вообразить про себя», по выражению Стасова.
По-видимому, все обстояло сложнее: религиозное миросозерцание Иванова эволюционировало, но не разрушалось. Он расставался не с верой, а с той крайней