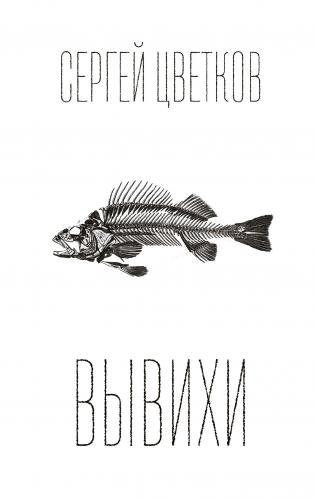тысячеглазый и собранный из тысячи звёзд.
Я шёл к тебе тысячи лет.
Я шёл к тебе тысячи лет, меня постоянно
окружала глубокая, грязная осень.
Я шёл к тебе тысячи лет. Бесперестанно
я слышал предсмертные крики обглоданных сосен.
Я шёл к тебе тысячи лет. Сухие деревья
трещали, когда поклонялись мне.
Я шёл к тебе тысячи лет. Осеннее зелье
хлестало ручьями из вен из вне.
Я шёл к тебе тысячи лет.
Я шёл к тебе тысячи лет. Каждый второй шаг
повторял на всю вселенную твоё ненаписанное имя.
Я шёл к тебе тысячи лет, пиная зелёный шар.
Каждую тысячу лет находил тебя и проходил мимо.
Я говорю о гармонии
Осенью,
когда журавли стали стрелкой компаса,
я оказался на туристическом слёте,
где пальцами,
дрожащими от узлов,
перебирал мысли, как ветер
осенние листья –
случайно я поймал его за хвост,
зацепился автомобильным тросом,
и он утащил меня к обрыву,
на котором трава растёт до шеи,
«трава мешает ходить ногам»,
а песок нетронут, как девушка,
читающая по вечерам
«Шум и ярость» Фолкнера.
Обрыв был настолько выше меня,
что я глотал вертикали,
чтобы увидеть наконечник копья.
Но главное, что вся эта глыба
продавливалась пальцами.
Всё это – песок.
Море захлёбывалось волнами –
оно мчалось к берегу,
словно раненая волчица – волнами,
которые пенной конницей –
конницей камикадзе
разбивали своих гнедых
о глиняный берег,
в котором тонет обрыв
и обрубок берёзы.
Ветер разносил холод и шум,
словно мальчик газеты утром,
и только горы
волнистой линией
подчёркивали пейзаж.
Они караваном слонов
легли у водопоя
и дымили свои трубки,
поглаживая бороды морской пеной
в бормотании о прошлом.
Ничего не стоит на месте.
И даже я,
замеревший от мгновения,
движусь от центра взрыва,
дрейфую на его волнах.
Камни и берёзовый листок на песке –
живы.
Деревья и черепа быков на земле –
живы.
Ногти и замки на куртках –
живы.
Мы вместе арендуем одну жилплощадь,
но платим по-разному.
Песчаный обрыв
был врезан в пейзаж
куском старого корабля.
На нём росли деревья,
и с каждой волной
он был ближе
к своему последнему
плаванию.
Я говорю о гармонии.
Однажды
однажды в 4 утра
я понял что смерть кора
и запонка на рукаве
мне страшно её отстегнуть
я замер как ртуть
как смерть
на мне
Штурвал
Вертелась голова штурвалом корабля,
но небо не кончалось в поворотах.
Оно нависло силою нуля
и не могло протиснуться в ворота
моей кирпичной головы, привыкшей мыслить
в масштабах города и мерить спешкой время.
Я видел голубую силу мыса –
его размытое волной вселенной темя,
и голубь с веточкой сухого кипариса
был в правый угол яркой маркой вклеен.
Вертелась голова штурвалом корабля,
виднелись бога пальцы из сандалий,
и солнце будто выбрало меня
среди больных, которые устали.
Шаманским бубном были облака.
Шаманом были облака, одетым в пурпур.
Шумела древней мельницей река –
сквозь нас вселенная твердила в рупор
одно лишь слово, лившееся как
кровь с молоком и ставившее в ступор.
Она