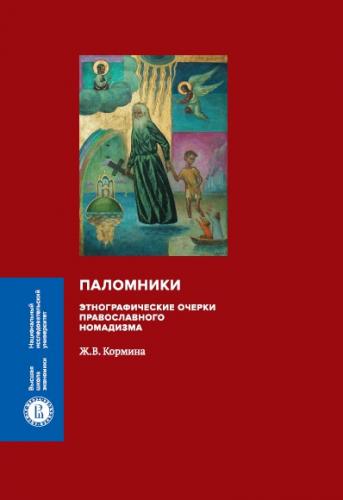советуются; нередко именно через них осуществляется связь со священником.) Территориальный же принцип понимания общины напоминает дореволюционное устройство прихода как территориально-административной единицы [Шевцова 2010: 38–47]. С этой точки зрения храм принадлежит всем местным жителям независимо от их участия в собственно церковной жизни. Во время моей работы в селе П. Свердловской области местные приходские активистки собирали средства на строительство забора вокруг церкви: кроме того что кружки для сбора денег поставили в магазине и больнице, эти женщины совершили и подворный обход села. И, как объяснила мне одна секулярная, никогда не бывавшая в здании храма с тех пор, как его перестал занимать дом культуры, местная жительница, на такое хорошее дело каждый денег даст, как даст на помощь погорельцам, которым также собирают деньги через подворный обход, всем миром. Храм оказывается одним из немногих общих дел (respublica) в современном селе, символом локальной идентичности и предметом гордости. В этом конкретном случае свое название село получило по названию расположенной в нем церкви (Покрова Пресвятой Богородицы), что должно еще больше повышать символический смысл церковного здания как общего места и объекта коллективной заботы. Оно принадлежит всем, и каждый имеет на него право, например, право использовать его как место для организации похорон вне зависимости от того, имеют ли отношение к церкви умерший или его семья. Идея прихода как общины единомышленников с широким участием мирян в принятии решений, развивавшаяся в церковных дискуссиях начала XX в. [Шевцова 2010: 57 и далее], частично реализуется только немногими священниками, в основном столичными, и сложившимися вокруг них общинами [Агаджанян 2011].
«Структурные»[6] православные, выбирающие регулярную религиозную жизнь в церковной общине – своем локальном приходе или монастыре, – стали в современном российском православии меньшинством. Большинство же выбирает иные способы аффилиации с Церковью, оставляющие существенное место пространству личного выбора и минимизирующие контроль институции за их жизнью. Их отношения с Церковью похожи на отношения пациента с поликлиникой: ты имеешь право на ее посещение, но обращаешься только в случае острой нужды.
Православные номады
Наряду с приходским можно говорить о номадическом режиме религиозности. «Структура», или церковь, по классическому определению Макса Вебера, является бюрократическим институтом по распределению харизмы, или благодати, которая освящается и легитимируется традицией. Харизма присутствует в священных предметах, но прежде всего в самом священстве, церковной иерархии и церковных таинствах. «Антиструктурным» православным претит риторика харизмы, поддерживаемая официальной церковью, поскольку она предполагает безусловный контроль со стороны общины и священника над жизнью верующего и его доступом к благодати. Поэтому они ищут альтернативные источники благодати и способы самостоятельного