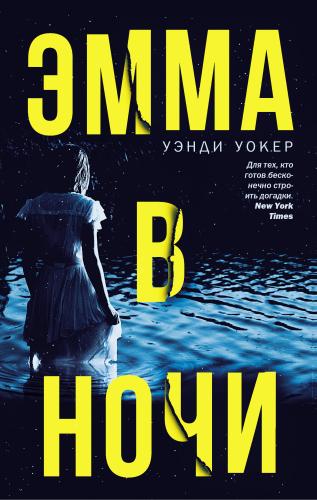А когда она печалилась или злилась на окружающий мир, что он жестоко с ней обошелся и не признал ее выдающихся талантов, нам приходилось повторять вновь и вновь, зная, что это вырвет ее из пучины мрачного настроения.
Ты самая лучшая мама на всем белом свете!
Маленькими мы с Эммой действительно в это верили.
Я помню все эти моменты в виде мелких фрагментов, которые больше не соединить вместе, подобно осколкам разбитого стекла с округлившимися от времени краями. Сильные руки, крепко сжимающие нас в объятиях. Запах ее кожи. Она пользовалась духами «Шанель № 5», утверждая, что они очень дорогие. Прикасаться к флакону нам запрещалось, но порой она протягивала его нам сама и подносила к носикам распылитель, чтобы мы могли вдохнуть их аромат.
Другие такие фрагменты содержат в себе звук ее голоса, когда она кричала и металась в постели, орошая слезами простыни. Я пряталась за Эммой. Сестра смотрела спокойно и изучающе, производя в уме какие-то расчеты. В каком состоянии будет мама, когда мы утром проснемся? Эйфории? Отчаяния? Помимо прочего, я помню чувство, которое тогда испытывала. Оно не ассоциируется с каким-то конкретным моментом и представляет собой лишь отголосок ощущения. Страх по утрам, когда открываешь глаза и понятия не имеешь, что нас ждет в течение дня. Что она будет делать – обнимать нас, причесывать мои волосы или же рыдать в подушку. Это примерно то же самое, что хватать первую попавшуюся одежку, не имея малейшего представления, какое сейчас время года – зима или весна.
Когда Эмме исполнилось десять, а мне восемь, мамины чары стали блекнуть в ярком свете окружающего мира – мира настоящего, в котором она не была ни красавицей, ни умницей, ни хорошей матерью. Эмма стала за ней кое-что замечать и делиться со мной своими открытиями.
Знаешь, а ведь она не права. Совершенно неважно, что за этим следовало – мнение ли мамы о родителях других детей из нашей школы, какой-нибудь факт из жизни Джорджа Вашингтона или же суждение о породе собаки, только что перебежавшей дорогу. Значение имело лишь то, что она была не права, и каждый раз, когда мы ее в этом уличали, наши голоса, отвечая на ее извечные вопросы, звучали все менее и менее искренне.
Я хорошая мать? Самая лучшая, о какой только можно мечтать?
Мы все так же отвечали ей «да». Но когда мне исполнилось восемь, а Эмме десять, она поняла, что мы врем.
В тот день мы были