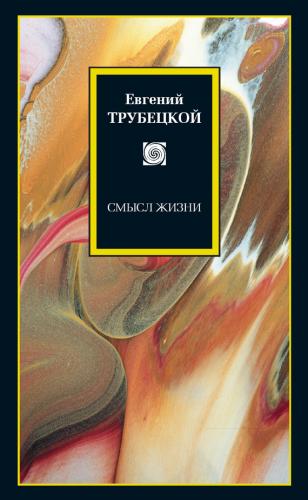И не одна мысль, восходя к смыслу, испытывает эту радость покоя: с нею вместе взлетает ввысь и воля. Там, внизу, в мире, погрязшем в неправде, царствует всеобщий раздор, льются потоки крови. Но воля моя всею своею силою утверждает открывшуюся в мысли сверхвременную правду, единство всеобщей цели и смысла над всеобщей борьбой. – Полет мысли тут проявляется как совесть о безусловном. И, созерцая все эти откровения нашей духовной свободы, испытуя нашу духовную силу во всевозможных подъемах и взлетах, мы и в самом деле убеждаемся в правдивости вещего сна. – В человеке есть тот крылатый гений, о котором сон свидетельствует. Есть и какая-то внемирная высота над человеком, куда уносят эти крылья.
Во сне и наяву мы воспринимаем две не только различные, но и две противоположные, несовместимые, спорящие между собою реальности. Которая из них истинная; где подлинное бытие? Чему верить – повседневным, очевидным, доказательствам силы духа или тем, тоже очевидным, доказательствам его бессилия? И, наконец, если в человеке спорят два плана бытия, то которому из двух он должен принадлежать? В котором из двух – цель и смысл его жизни?
Вокруг этих вопросов идет вековечный спор двух противоположных жизнепониманий – жизнепонимания натуралистического, которое ищет подлинной жизни и ее смысла в плоскости здешнего, и жизнепонимания супранатуралистического, которое утверждает, что истинная жизнь и ее смысл сосредоточивается в ином, верхнем, потустороннем плане бытия. Рассмотрение этих двух решений жизненной проблемы приводит нас к заключению об одинаковой односторонности, а потому и одинаковой несостоятельности обоих.
Для натурализма – религиозного и философского – подлинная жизнь, средоточие всего ценного, что есть в мире, есть именно эта жизнь, которая протекает в посюстороннем плане бытия; подлинный мир – именно тот, который здесь перед нами кружится в одной плоскости, периодически нарождаясь и умирая. Ярким образцом такого жизнепонимания служит древнегреческая религиозность с ее культом творящей силы природы и сее прекрасными солнечными богами – олимпийцами. Все эти боги грома и молнии, волн морских, лунного сияния и ослепительно яркого полуденного неба суть человекообразные олицетворения радости здешнего. – Пафос посюстороннего – вот о чем в один голос говорят эти образы. Греческая религия знает и потустороннее; но это – не надземный, а подземный мир, где темно и безотрадно; о нем говорит Одиссею тень Ахилла, что лучше быть на земле рабом и поденщиком, чем в царстве теней царствовать над мертвецами.
С течением времени, после Гомера, представления греков о загробном мире обогащаются новыми чертами: появляются сказания о Елисейских полях, куда в виде исключения попадают отдельные «блаженные», «восхищаемые богами» и участвующие в их бессмертии[4]. Но это – не потусторонний мир, а только иная, весьма отдаленная область здешнего, страна,